|
Для цитирования:
Цапенко И.П. Объективные и воспринимаемые последствия иммиграции
//Демоскоп Weekly. 2016. № 675-676.
URL: http://demoscope.ru/weekly
/2016/0675/tema01.php
|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Объективные
и воспринимаемые последствия иммиграции[1] |
|
Над темой номера работала
|
 |
|
Ирина
ЦАПЕНКО[2]
|
|
Кто едет в развитые страны
Как показывают опросы, среди местных жителей западных
и переходных стран широко распространено мнение о том, что иммиграция
негативно влияет на экономику, повышает напряженность на рынке труда,
увеличивает нагрузку на сферу социальных услуг, ухудшает криминогенную
обстановку и др. Эти тревоги заметно усиливаются в условиях современного
миграционного кризиса в Европе. В то же время, несмотря на массовый
приток иностранцев, удовлетворенность жизнью населения принимающих
стран продолжает оставаться высокой. Напрашиваются естественные
вопросы: как сказывается иммиграция на благополучии коренных жителей,
как она отражается в их массовом сознании, как соотносятся ее объективные
и воспринимаемые последствия?
Как свидетельствует статистика последних десятилетий,
международная миграция населения - масштабный и интенсивно развивающийся
процесс. Согласно данным ООН, в 2013 году мировая численность международных
мигрантов, то есть лиц, родившихся за пределами страны проживания
(население иностранного происхождения), достигла 231,5 млн. В более
развитых регионах мира (страны Запада и страны с переходной экономикой)
приезжие насчитывали 135,6 млн., составляя почти 9-ю часть населения
этих территорий. При этом в Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии
и Канаде их доля превышала 20%, а в Люксембурге составляла более
40%. C учетом же потомков мигрантов в первом поколении, родившихся
в стране иммиграции, этот показатель увеличивается в полтора-два
раза. Доля лиц с иностранными корнями приближается к половине населения
Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии, а в Люксембурге насчитывает
свыше 60% жителей (табл. 1).
Таблица 1. Доля лиц с иностранными корнями в
населении западных стран,
2013 год, %
|
|
Лица, родившиеся за границей
|
Лица, родившиеся за границей, и их потомки в первом поколении,
родившиеся в стране иммиграции
|
|
ОЭСР (30)
|
10,58
|
18,44
|
|
ЕС (26)
|
9,86
|
15,88
|
|
Люксембург
|
43,3
|
60,7
|
|
Австралия
|
25,67
|
46,21
|
|
Новая Зеландия
|
25,27
|
44,87
|
|
Швейцария
|
28,78
|
43,28
|
|
Канада
|
20,90
|
38,50
|
|
Бельгия
|
16,80
|
31,14
|
|
Швеция
|
15,65
|
27,75
|
|
Австрия
|
15,52
|
27,08
|
|
Франция
|
11,72
|
26,30
|
|
США
|
13,21
|
24,36
|
|
Норвегия
|
13,79
|
20,86
|
|
Германия
|
13,33
|
19,95
|
|
Нидерланды
|
10,66
|
19,75
|
|
Великобритания
|
12,39
|
19,19
|
|
Испания
|
12,13
|
16,38
|
|
Ирландия
|
14,04
|
16,30
|
|
Дания
|
7,56
|
14,41
|
|
Италия
|
8,45
|
9,40
|
|
Португалия
|
7,00
|
8,30
|
|
Финляндия
|
4,93
|
7,65
|
|
Греция
|
5,01
|
6,60
|
Источник: Indicators of immigrant integration 2015: Settling
in. P., OECD, 2015. P. 17.
При этом в указанной группе отмечалось замедление среднегодовых
темпов прироста численности мигрантов: с 2,3% в 2000-е годы до 1,5
в 2010-2013 годы. Данное обстоятельство объясняется в первую очередь
последствиями глобальной рецессии, вызвавшей масштабное падение
спроса на приезжих работников, особенно в таких отраслях их традиционной
концентрации, как строительство, торговля, гостиничный и ресторанный
бизнес, которые весьма чувствительны к колебаниям конъюнктуры, и
особенно сильно ударившей по трудовой миграции. Кроме того, в начале
тысячелетия в мире отмечалось постепенное затухание части очагов
беженства, что сказалось в сокращении численности этой категории
вынужденных мигрантов в северных регионах, среднегодовые темпы которого
составили 4,2% в нулевые годы и 0,9% в 2010-2013 годы[3].
Вместе с тем в самые ближайшие годы следует вновь ожидать
заметной интенсификации перемещений населения. Военные конфликты
в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, рост радикального исламизма
и общее экономическое и социальное неблагополучие в этих регионах
вызвали в середине второго десятилетия этого века резкий рост вынужденной
и нелегальной миграции оттуда в страны Евросоюза. Вследствие этих
процессов Европу охватил острейший миграционный кризис – крупнейший
со времен Второй мировой войны. По данным Евростата, с 2010 по 2014
год число лиц, ищущих убежища в ЕС, возросло почти в 2,5 раза. А
согласно предварительным данным этой организации, общее число поданных
в 2015 году прошений превысило 1 млн. и уже превзошло максимальную
отметку последних десятилетий (672 тыс. в 1992 году)[4].
Однако, по мнению министра иностранных дел и торговли
Венгрии П. Сийярто, «было бы самообманом называть эту ситуацию миграционным
кризисом; это массовая неиссякаемая миграция народов»[5].
Как полагает министр, в ближайшие годы в Европу могут прибыть 30–35
миллионов мигрантов, а это уже превысит масштабы вынужденных перемещений
40-х годов, в которые было вовлечено порядка 10-20 млн. человек.
Хотя подобный сценарий представляется маловероятным, очевидно, что
продолжение притока лиц, ищущих убежища, а также цепное следование
за ними в ближайшем будущем потоков воссоединяющихся членов семей
и других категорий населения ускорит динамику численности приезжих.
Согласно предварительным данным ОЭСР, еще в 2014 году,
впервые со времен глобальной рецессии, произошел заметный (на 6%)
рост иммиграции на постоянное местожительство в страны ОЭСР, масштабы
которой теперь почти достигли уровня предкризисного 2007 года[6].
Одним из главных факторов, сгенерировавших это увеличение, было
резкое расширение гуманитарных потоков в ЕС. Кроме того постепенное
возобновление экономического роста в большинстве более развитых
стран побуждает активизацию свободных передвижений населения на
территории Евросоюза, а также расширение приема временных иностранных
работников из третьих стран.
Миграционные потоки в развитые регионы традиционно отличаются
повышенной концентрацией лиц активного трудоспособного возраста[7],
что указывает на важную роль этих потоков в поставке трудовых ресурсов
– даже в периоды рецессий. Причем данная особенность возрастной
структуры характерна не только для трудовых, но и гуманитарных категорий
иностранного населения, которые также рассматриваются как потенциальный
трудовой актив принимающих обществ. По данным Евростата, четверть
лиц, подавших в 2014 году прошение о предоставлении убежища в странах
Союза, – моложе 17 лет, еще более половины таких вынужденных мигрантов
приходится на долю возрастной группы 18-34 лет, в составе которой
мужчины составляют около 80%[8].
Однако рестриктивный характер современной иммиграционной
политики не только сохраняется, но и нередко даже усиливается. В
наибольшей мере ограничения затрагивают потоки малоквалифицированных
работников. В сочетании с возросшей селективностью иммиграционных
мер в пользу востребованных высококвалифицированных специалистов
это сказывается в кардинально различной динамике соответствующих
групп населения иностранного происхождения. За 2000-е годы в странах
ОЭСР прирост численности мигрантов с высоким уровнем образования
составил 70%[9], с низким –
10%[10].
В результате в ЕС удельный вес групп с образованием
третьей ступени в общей массе мигрантов 15?74 лет увеличился с 23,1%
в 2004 году до 27,4% в 2013 году и теперь превосходит аналогичный
показатель среди коренного населения (24%)[11].
Особенно высоких значений доля высокообразованных мигрантов достигает
в Канаде ? 52%, Ирландии ? 47, Великобритании ? 46, Болгарии ? 42,
Новой Зеландии ? 39 и Австралии ? 38%, превосходя на 10?20 порядковых
пунктов аналогичный показатель среди местного населения[12].
Весомая доля приезжих с образованием третьей ступени,
являющихся носителями инновационных человеческих ресурсов и наиболее
быстро интегрируемых в принимающие общества, составляет главный
актив иммиграции. Показательно, что в 2013 году в странах ОЭСР доля
занятых среди них составляла 77%, что было заметно выше, чем среди
других категорий мигрантов. Вместе с тем уровень занятости приезжих
специалистов остаётся более низким, чем местных (84%). Кроме того,
30% таких мигрантов работают на должностях ниже уровня квалификации,
что в 1,5 раза выше, чем у аналогичной группы местных работников[13].
Это свидетельствует о существенном недоиспользовании человеческого
капитала, который потенциально мог бы приносить ещё большую социально-экономическую
отдачу. Кроме того, конкуренция более образованных мигрантов в низших
сегментах рынка труда усугубляет там и без того сложную ситуацию.
В то же время за 2004–2013 годы в ЕС доля иммигрантов,
не имеющих полного среднего образования, понизилась с 40,2 до 36,8%,
тем не менее она пока остаётся существенно бо?льшей, чем среди местных
жителей (29,5%)[14]. Многочисленность
этой категории является главным источником социальных проблем иммиграции
в принимающих странах.
Как известно, малообразованные мигранты сталкиваются
с наибольшими сложностями трудоустройства. Уровень занятости среди
них составлял в 2013 году в ОЭСР всего 54%, свидетельствуя об избыточности
этой категории рабочей силы. Во многом данное обстоятельство объясняется
тем, что значительная часть таких иностранцев прибывает по каналам
семейной и гуманитарной иммиграции, не обусловленной потребностями
рынка труда. От 61 до 81% жителей иностранного происхождения, постоянно
проживавших в 2008 году в Бельгии, Нидерландах, Норвегии и Швеции,
были приняты туда в качестве воссоединяющихся взрослых членов семей
или беженцев[15].
Роль таких каналов в структуре постоянной иммиграции
увеличивается[16], особенно
на фоне обострения миграционного кризиса в Европе. Ситуация усугубляется
еще худшими, нежели в среднем по населению иностранного происхождения,
показателями образования вынужденных мигрантов. Среди лиц, прибывших
в Германию в 2014 году в поисках убежища, только 15% имели третичное
образование, 16% – полное среднее, 35% – основное среднее, 24% –
начальное, а 11% вообще никогда не посещали школу[17].
Гораздо худшие шансы найти работу у вынужденных мигрантов, равно
как и воссоединяющихся членов семей, особенно у женщин, по сравнению
с трудовыми мигрантами (меньше на 13-18 п.п.[18]),
обусловливают необходимость специальных государственных программ
и, соответственно, расходов по социальной поддержке таких приезжих.
Увеличение численности малообразованных когорт рабочей
силы в результате происходящего в последние годы массового притока
лиц, ищущих убежища, скажется в обострении конкуренции в соответствующем
сегменте рынка труда и давлении на занятость и заработки местных
работников аналогичной квалификации. По оценкам ОЭСР, в Европейской
экономической зоне и Швейцарии в результате современного приема
вынужденных мигрантов на рынок труда выйдет дополнительно около
1 млн. человек, что составит 0,4% рабочей силы региона, в том числе
1% – в Германии[19].
Особую остроту социальным проблемам придаёт инокультурный
характер современной иммиграции. С 1990 по 2013 год 78% прироста
численности приезжих в северных регионах приходилось на выходцев
из южных регионов, и доля последних среди населения иностранного
происхождения в более развитых странах сейчас составляет около 60%,
превышая 80% в США и Канаде[20].
Доминирование представителей иных цивилизационных принадлежностей
среди мигрантов порождает этнокультурные и этноконфессиональные
риски для принимающих обществ, угрожающие, по мнению некоторых экспертов,
призраками превращения США в «Мексифорнию», а Европы – в «Еврабию».
В США, где большинство населения иностранного происхождения
приходится на долю уроженцев Латинской Америки, в основном Мексики,
сформировалось весьма многочисленное сообщество «хиспэникс» (Hispanics),
или «латинос» (Latinos), объединяемых общностью испанского языка,
латиноамериканских корней и культуры. Численность испаноязычного
меньшинства, составлявшего в 1970 году всего 9 млн. (5%) населении
Америки, в 2013 году насчитывала 54 млн. (17%), уступая лишь белому
большинству. А в 2050 году, согласно прогнозу Бюро переписи населения
США, она достигнет 105 млн. (26,5%), делая американскому обществу
серьезный вызов испанизации (рис. 1).
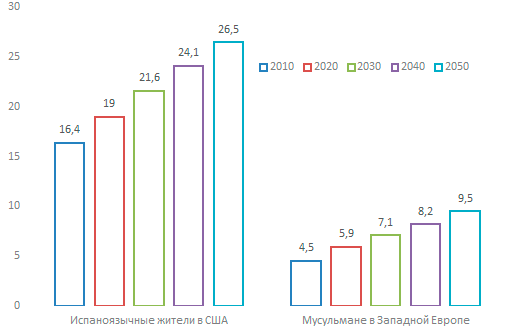
Рисунок 1. Прогноз доли инокультурных сообществ
в населении США и Западной Европы, 2010-2050 годы, %
Составлено и рассчитано по: 2014 National Population Projections:
Summary Tables. http://www.census.gov/population/projections/data/national/2014/summarytables.html;
The Future of World Religions: Population Growth Projections,
2010-2050. http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050
При этом уже в 2020 году население этой страны моложе
18 лет, а в 2044 году все население пересечет «этно-расовый перекресток»,
за которым белые англо-саксонские жители, составляющее основу американской
нации, перестанут быть большинством, хотя и останутся самой крупной
этнической группой.
Усиление демографической экспансии хиспэникс еще отчетливее
проявляется на региональном и особенно локальном уровнях. Юго-западные
штаты США, такие как Нью-Мексико (где доля латинос достигала в 2011
году 47% населения), Техас и Калифорния (38%) превращаются в гигантский
испаноязычный пояс, где часто даже дома говорят по-испански представители
других этнорасовых групп. Уже сейчас в 13 из 60 крупнейших метрополисов
доля испаноязычных жителей перевалила за половину, причем в 4 городах
она приближается к 90% или уже преодолела эту отметку. Этот южный
пояс расширяется на север, угрожая в будущем поглотить регионы традиционного
проживания белого и афроамериканского населения, в том числе Нью-Йорк
и Чикаго.
В Западной Европе, испытывающей со времен послевоенного
импорта рабочей силы и распада колониальных империй массированную
иммиграцию выходцев с исламского Востока, где на долю мусульман
приходится более четверти всех мигрантов[21],
сложились новые для прежде гомогенной структуры большинства принимающих
государств этнически разнородные, но и имеющие единую религиозную
– мусульманскую – референцию меньшинства. Особо крупные этно-конфессиональные
общины созданы уроженцами стран Магриба во Франции, Турции – в Германии,
Южной Азии – в Великобритании. Согласно данным исследовательского
центра Pew, оценочная численность мусульман в Западной Европе возросла
с менее чем 300 тыс. (ниже 0,1% населения региона) в 1950 году до
18 млн. (5%) в 2010 году, а в 2050 году превысит 39 млн. (9,5%)
опережая по динамике другие группы населения, в частности христиан[22]
(рис. 1). Превращение ислама во вторую по числу приверженцев и набирающую
все большее влияние на фоне слабеющего христианства религию Западной
Европы создает серьезные угрозы исламизации региона. Уже в конце
нулевых годов четверть и более жителей Марселя (35%), Амстердама,
Бирмингема, Брюсселя и Роттердама составляли мусульмане, крупные
общины которых образуют «параллельные миры», напоминающие исламские
мини-государства, которые живут по законам шариата[23].
Современная волна вынужденной миграции в Европу, за
которой последуют новые потоки, еще более ускорит динамику мусульманского
населения в регионе, особенно в странах, притягивающих наиболее
массовые контингенты лиц, ищущих убежища: Германии, Венгрии, Швеции,
Франции, Италии, а также Австрии. Согласно статистике Евростата,
подавляющее большинство беженцев происходит из исламских стран,
в первую очередь Сирии, Афганистана, Ирака, Косово, Албании, Пакистана
и Сомали. Особенно интенсивно пополняют мусульманские сообщества
сирийцы и иракцы, среди которых доля получающих статус беженца или
гуманитарный статус приближается к 90% или превышает эту отметку.
(Хотя почти все прошения из стран Балканского полуострова, считающихся
безопасными для жизни, отвергаются, и их податели подлежат возврату
на родину, нахождение таких «ложных беженцев» на территории Европы
на время рассмотрения прошений создает большую нагрузку на миграционные
службы и системы размещения беженцев.)
Сложность интеграции таких мигрантов проистекает из
существующей взаимосвязи между устойчивостью инокультурной (иной
конфессиональной и лингвистической) составляющей их идентичности:
традиционной резистетности мусульман ассимиляции и инерционности
облика латинос[24], с одной
стороны, и социально-экономическими факторами, с другой. Низкий
уровень образования большой части выходцев из развивающихся стран[25],
осложняющий овладение приезжими языком принимающего общества, препятствует
не только их полноценной интеграции в сферу занятости, но и усвоению
норм и ценностей этого социума. При ограниченной «переносимости»
человеческого капитала, приобретенного мигрантами в стране происхождения,
– тем меньшей, чем большей является социокультурная дистанция между
странами происхождения и назначения приезжих, культурные различия,
усугубляемые дискриминацией, превращаются в социальное неравенство.
Так, в странах ЕС средний уровень безработицы среди мигрантов, достигавший
в 2013 году 15,5%, в 1,5 раза превышал аналогичный показатель среди
местных жителей[26]. В государствах
ОЭСР доля работающих бедных (совокупный доход домохозяйства на 50%
ниже медианного по стране проживания) среди мигрантов составляла
27%, что было в 2 раза выше, чем среди местных жителей[27].
Указанная специфика условий труда мигрантов сказывается в свою очередь
на положении последних в системе бюджетных потоков в принимающих
странах.
[1] Статья подготовлена при
поддержке РГНФ, проект № 16-07-00008.
[2] Цапенко Ирина Павловна,
и.о. зав. сектором Института мировой экономики и международных отношений
им. Е.М. Примакова РАН, д. экон. н.
[3] Trends in International
Migrant Stock: The 2013 Revision. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatestotal.shtml
[4] Eurostat datebase. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
[5] 35 million migrants heading
to Europe, says Hungary as it builds second fence. Express. Sep
19, 2015. http://www.express.co.uk/news/world/606211/35-MILLION-migrants-Europe-Hungary-builds-second-fence
[6] International Migration
Outlook: 2015 Edition. P., OECD, 2015. Р. 12.
[7] Среди мигрантов, прибывших
в 2006-2011 гг. в Европу, 53% составляли лица 25-39 лет, в том числе
22% – лица 25-29 лет. (Matching Economic Migration with Labour Market
Needs. Р., OECD, 2014. Р. 52).
[8] Eurostat datebase. Op.cit.
[9] Этому процессу благоприятствовало
стремительное развитие учебной миграции, которая, будучи источником
финансовых поступлений и востребованных кадров высокой квалификации,
остаётся желательной для принимающих стран. Число иностранных студентов,
обучающихся в странах ОЭСР, возросло за 2005?2012 гг. в 1,5 раза,
достигнув 4,5 млн. (Education at a Glance 2015: OECD Indicators.
P., OECD, 2015. Р. 360).
[10] Arslan C. et al. A New
Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis.
OECD Social, Employment and Migration Working Paper. 2014. № 160.
Р. 10 http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en
[11] Eurostat datebase. Op.cit.
[12] Arslan C. et al. A New
Profile of Migrants. Op.cit. P.16-17.
[13] International Migration
Outlook: 2014 Edition. P., OECD, 2014. P. 60.
[14] Eurostat datebase. Op.cit.
[15] International Migration
Outlook: 2014. Op.cit. P. 49.
[16] За 2007?2012 годы совокупная
доля иностранцев, принимаемых на постоянное место жительства в страны
ОЭСР по каналам воссоединения семей, в качестве сопровождающих членов
семей иностранных работников, а также лиц, получающих статус беженца
или аналогичный ему, увеличилась с 47,9 до 51,3%. (Рассчитано по:
International Migration Outlook: 2014. Op.cit. P. 22.).
[17] Migration Policy Debates.
OECD. 2015. N°7. September. Р. 8.
[18] International Migration
Outlook: 2014. Op.cit. Р. 118.
[19] Migration Policy Debates.
OECD. 2015. N°8. November. Р. 1.
[20] Population Facts. 2013.
№ 3. Р. 2.
[21] Faith on the Move: The
Religious Affiliation of International Migrants. 2012. http://www.pewforum.org/files/2012/03/europe-fact-sheet.pdf
[22] The Future of World
Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050.
[23] Вайнштейн Г.И. Ислам
в городском пространстве и в общественном сознании Европы // МЭиМО.
2013. No 6. P. 29-37.
[24] Вайнштейн Г.И. Инокультурные
идентичности и перспективы общественно-политического развития современного
Запада // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2
т. М.: РОССПЭН, 2012. Т 2. /отв. ред. И.С. Семененко. С. 207-231.
[25] В 2010?2011 годах не
имели диплома об окончании полной средней школы 74% прибывших менее
пяти лет назад в страны ОЭСР уроженцев Сомали, 62% – Марокко, 57%
– Мексики. ( Arslan C. et al. A New Profile of Migrants.
Op.cit. P. 21.)
[26] Eurostat datebase. Op.cit.
[27] International Migration
Outlook: 2014. Op.cit. P. 60.
|

