|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Значение социального капитала для здоровья в странах
Европы[1]
Русинова Н.Л.[2],
Сафронов В.В.[3]
(Опубликовано в «Журнале социологии и социальной антропологии»,
2014, №3, с. 112-133)
Здоровье и социальный капитал: противоречивые результаты
исследований
Одно из быстро развивающихся направлений в современной
социологии здоровья связано с понятием социального капитала (Islam
et al. 2006; Kawachi, Berkman 2000; Macinko, Starfield 2001; Social
Capital Debate 2004; Social capital and health 2008; Szreter, Woolcock
2004). Исследования свидетельствуют, что наличие социального капитала
является благоприятным условием для поддержания здоровья людей (см.,
например, Hawe, Schiell 2000; Kawachi et al. 1997; Kawachi, Kennedy,
1999; Lomas 1998; Veenstra 2000).
Теоретические основания этих исследований составляют
два основных подхода к пониманию социального капитала. В первом
под этим капиталом, в традициях П. Бурдье и Дж. Коулмена, подразумеваются
ресурсы индивида, доступ к которым формируется благодаря его вхождению
в социальные сети (Bourdieu 1986; Coleman 1988). В другом подходе,
опирающемся на концептуализацию Р. Патнэма, социальный капитал —
приверженность гражданской активности, нормы взаимности и доверие
между людьми — рассматривается как свойство сообщества, облегчающее
достижение общих целей (Putnam 2000; Putnam, Leonardi, Nanetti 1993).
Согласно «сетевой» теории, социальный капитал служит
для индивидов источником поддержки, обеспечивая им в случае необходимости
психологическую и материальную помощь со стороны социального окружения
и выступая буфером, смягчающим негативные последствия стрессов (Cohen
2004; Szreter, Woolcock 2004). Влияние коллективного социального
капитала на здоровье может быть связано с усилением государственной
социальной политики — вследствие развития институтов гражданского
общества, массовой активности граждан в добровольных ассоциациях
и ее влияния на демократическую подотчетность властей. Кроме того,
укрепление в обществе доверия между людьми и формирование культуры
доверительных отношений способствуют психологическому комфорту в
социальных взаимодействиях и устранению стрессов, сопутствующих
социальным конфликтам и изоляции (Kawachi, Berkman 2000; Kawachi,
Kennedy, Glass 1999; Jen et al. 2010).
Еще одно важное концептуальное разграничение в исследованиях
социального капитала предполагает отделение его «структурных» (поведенческих)
характеристик — вовлеченности людей в сети социальных взаимодействий,
от характеристик «когнитивных» (аттитюдных), свидетельствующих об
их приверженности нормам доверия и взаимности (Harpham, Grant, Thomas
2002; Lochner et al. 2003; Putnam, Leonardi, Nanetti 1993). Признается
также и важность вычленения двух типов поведенческого капитала (вслед
за М. Грановеттером, указавшим на значение «сильных» и «слабых»
социальных связей, Granovetter 1973): один — взаимодействие членов
однородной социальной группы или близких людей (“bonding” social
capital), а другой — социальные связи, объединяющие представителей
разных общественных групп (“bridging” social capital) (Kawachi 2006;
Lochner, Kawachi, Kennedy 1999; Harpham 2008; Putnam 2000; Szreter,
Woolcock 2004).
До недавнего времени исследования влияния социального
капитала на здоровье осуществлялись либо на «экологическом» уровне,
подразумевающем сопоставление его коллективных запасов и состояния
здоровья сообщества или общества в целом, либо на индивидуальном
уровне анализа — различий в здоровье людей, обусловленных особенностями
взаимодействия индивида со своим социальным окружением и его отношением
к другим людям. В последние годы все чаще такое влияние изучается
с учетом обоих уровней — воздействия индивидуальных запасов социального
капитала и его контекстуальных, общественных ресурсов на здоровье,
а также интеракции между индивидуальными и контекстуальными факторами
(Kawachi, Subramanian, Kim 2008).
Так, например, экологические исследования, проводившиеся
в США, свидетельствуют о том, что социальный капитал, зафиксированный
на уровне штатов, оказывает самостоятельное влияние на показатели
смертности и субъективного здоровья (Kawachi, Kennedy, Glass 1999;
Kawachi et al. 1997; Putnam 2000). Такой же вывод был сделан и по
результатам исследования российских регионов (Kennedy, Kawachi,
Brainerd 1998). Сравнительный анализ смертности, продолжительности
жизни и воспринимаемого здоровья граждан ряда европейских стран,
однако, этого заключения не подтверждает: общественный капитал,
измеряемый агрегированными индексами доверия и организационного
участия, существенного воздействия на национальное здоровье не оказывал
(Kennelly, O’Shea, Garvey 2003; Lindstrom C., Lindstrom M. 2006;
Lynch et al. 2001). Многочисленные исследования, выполненные на
индивидуальном уровне, согласуются с результатами предшествующих
работ, посвященных роли социальных сетей и социальной поддержки
для здоровья (см. Berkman, Glass 2000; Cohen 2004), демонстрируя,
что у людей, сильнее вовлеченных в социальные взаимодействия и склонных
доверять другим, здоровье, как правило, лучше, чем у тех, кто не
обладает этими ресурсами, даже при контроле их социальнодемографических
различий (см., например, Barefoot, et al. 1998; Carlson 1998; 2004;
Нyрра, Маki 2001; Islam et al. 2006; Rose 2000; Social capital and
health 2008). В методологической критике этих исследований отмечается,
что, с одной стороны, эффекты, выявляемые при экологическом подходе,
могут в действительности быть обусловлены индивидуальными различиями
или композицией населения, а с другой — при учете только индивидуальных
запасов капитала могут остаться незамеченными контекстуальные особенности
их влияния на здоровье (Lochner, Kawachi, Kennedy 1999; Poortinga
2006b; Subramanian, Kawachi 2004; Veenstra 2005).
Развитие статистических методов многоуровневого моделирования
позволяет сегодня проверять предположения о влиянии на здоровье
не только индивидуального социального капитала и его общественных
ресурсов, но и учитывать взаимодействие тех и других факторов (Diez-Roux
1998; 2000; Duncan, Jones, Moon 1998). Учет этого взаимодействия
дает возможность выявлять социетальные контексты, в которых для
здоровья особенно важна социальная поддержка, где оно в большей
степени зависит от развития гражданской активности, а также общественные
условия, благоприятные для проявления зависимости самочувствия людей
от их доверительного отношения к другим (см., напр., Kawachi et
al. 2004; Subramanian, Kim, Kawachi 2002).
Однако сравнительно немногочисленные исследования, выполненные
с применением многоуровневой методологии, также не привели пока
к однозначным выводам. В одних работах связи социального капитала
со здоровьем были обнаружены на обоих уровнях анализа — социетальном
и индивидуальном (Jen et al. 2010; Poortinga 2006a; Snelgrove, Pikhart,
Stafford 2009), в то время как другие исследования, не выявив контекстуальных
эффектов, подтверждают, что только индивидуальные социальные ресурсы
важны для поддержания здоровья (Poortinga 2006b; Subramanian, Kim,
Kawachi 2002).
Результаты изучения интеракций между контекстуальными
и индивидуальными переменными социального капитала (Carpiano 2007;
Han, Kim, Lee 2012; Jen et al. 2010; Kim, Kawachi 2006; Mansyur
et al. 2008; Meng, Chen 2014; Poortinga 2006b; Subramanian, Kim,
Kawachi 2002) также остаются противоречивыми. Так, было обнаружено
(Kim, Kawachi 2006; Subramanian, Kim, Kawachi 2002), что люди, склонные
доверять другим, чувствуют себя лучше в высоко доверяющем сообществе,
в то время как здоровье тех его членов, кто с подозрением относится
к окружающим, в такой культурной среде имеет тенденцию к ухудшению.
В другом исследовании интеракция между переменными доверия первого
и второго уровней для европейских стран проявлялась по-иному: доверие
между людьми оказывало наиболее отчетливое влияние на самочувствие
в обществах с более развитой культурой доверительных отношений,
причем индивиды, придерживающиеся норм этой культуры, — доверяющие
другим, отличались заметно лучшим здоровьем по сравнению с теми,
кто ее норм не разделял (Poortinga 2006b). Это было подтверждено
и другими авторами (Jen et al. 2010; Meng, Chen 2014). Но есть и
работы, в которых подобных интеракций не обнаруживается (Mansyur
et al. 2008).
Еще более запутанной остается ситуация с взаимодействием
переменных «структурного» социального капитала двух уровней. Согласно
одним данным, высокая плотность социальных сетей в сообществе или
обществе в целом способствует улучшению здоровья людей, в меньшей
степени вовлеченных в социальные взаимоотношения с окружающими (Carpiano
2007; Han, Kim, Lee 2012; Kim, Kawachi 2006; Mansyur et al. 2008).
По другим сведениям, здоровье в таких контекстах, напротив, лучше
у тех, кто способен воспользоваться этим коллективным капиталом,
будучи сам активным участником сетевых взаимодействий (Poortinga
2006b). Встречаются также исследования, в которых эффекта межуровневых
интеракций между контекстуальными и индивидуальными переменными
«структурного» социального капитала на здоровье обнаружено не было
(Meng, Chen 2014).
Противоречивость результатов многоуровневых исследований,
как отмечается аналитиками, может объясняться многими факторами
— отсутствием единообразия используемых индикаторов социального
капитала, различием в уровнях анализа, на которых осуществляется
поиск контекстуальных влияний социального капитала (Kawachi et al.
2004; Murayama, Fujiwara, Kawachi 2012), своеобразием композиционного
состава сопоставляемых стран (Mansyur et al. 2008), а также неучтенными
характеристиками общественной среды, способными оказывать самостоятельное
воздействие как на коллективные запасы социального капитала в обществе,
так и на здоровье населения (Engstrom et al. 2008). Высказываются
предположения, согласно которым связи различных индикаторов социального
капитала и здоровья населения могут отражать эффекты таких параметров
социетального контекста, как уровень абсолютной экономической депривации
и бедность (Franzini et al. 2005; Jen et al. 2010), выраженность
доходных неравенств (Kawachi et al. 1997; Wilkinson 1996), типы
политической системы (Navarro, Shi 2001) и «государства благосостояния»
(Rostila 2007), эффективность функционирования демократических институтов
(Bobak et al. 2007), различия в культуре (Eckersley 2006; Forbes,
Wainwright 2001) и, наконец, исторические события и условия жизни
в прошлом (Popay 2000).
Таким образом, для устранения противоречий, описывающих
влияние контекстуального социального капитала на здоровье и его
взаимодействия с индивидуальными запасами этого капитала, необходимы
дальнейшие эмпирические исследования. Они необходимы и для вычленения
существенных контекстуальных факторов, способных повлиять на характер
зависимости между индивидуальным социальным капиталом и здоровьем,
включая экономическое развитие стран, их социальную политику, качество
работы государственных структур и особенности культуры. В представленном
исследовании предпринимается попытка внести вклад в прояснение некоторых
из этих вопросов.
Задачи и методы исследования
Настоящее исследование исходит из методологического
представления о влиянии на здоровье людей не только их индивидуальных
характеристик, но и общественного контекста. На индивидуальном уровне,
согласно теории социальных неравенств, различия в здоровье людей
отражают их положение в демографической и социальной структурах
общества. Теория социального капитала позволяет предположить, что
такие различия связаны и с вовлеченностью индивида в сети социальных
взаимодействий с близкими и знакомыми, с его участием в работе добровольных
ассоциаций граждан и доверием другим людям. Эти социальные ресурсы
позволяют человеку рассчитывать на получение материальной и психологической
поддержки в трудных жизненных обстоятельствах — ослабляют негативное
воздействие на здоровье лишений и стрессов. Наряду с переменными
индивидуального уровня, на здоровье людей может оказывать влияние
общественный контекст — оно лучше в странах с развитой экономикой
и сильным социальным государством, с эффективным государственными
и политическими институтами, действующими в интересах граждан. Общественные
ресурсы социального капитала — распространенность в стране социальных
сетей и ассоциаций и культура доверительных отношений между людьми
— также, возможно, являются условием, благоприятно сказывающимся
на здоровье. Есть основания предполагать, что контекстуальные факторы
важны не столько сами по себе, сколько во взаимодействии с переменными
социальной демографии и социального капитала индивидуального уровня.
Так, социальная поддержка со стороны ближайшего окружения может
оказаться важнее для здоровья людей в менее развитых странах, чем
в богатом обществе с сильной социальной политикой, где защиту обеспечивает
государство. Социальная интеграция общества, поддерживаемая широким
распространением сетей социальных взаимодействий, добровольных ассоциаций
и культуры взаимного доверия, способна позитивно сказываться на
здоровье тех, кто пользуется этими общественными ресурсами — сам
вовлечен в сети и склонен доверять другим, но она может усугублять
проблемы со здоровьем у людей, плохо интегрированных в социальную
ткань общества и не разделяющих доминирующих культурных норм.
Ориентируясь на изложенные концептуальные положения,
авторы данной работы предпринимают попытку сравнительного анализа
состояния здоровья граждан европейских стран, направленного на решение
трех общих задач.
Первая задача — проверить, способствуют ли ресурсы индивидуального
«структурного» социального капитала (вхождение в сети социальных
взаимодействий и участие в работе добровольных объединений граждан)
поддержанию здоровья и связано ли такое влияние с общественным контекстом.
Предполагается выяснить, действительно ли в менее развитых странах
(по уровню развития экономики, социального государства и эффективности
управления) важным условием для сохранения здоровья является наличие
у человека близкого социального окружения — родственников, друзей,
товарищей по работе — и поддержание с ними постоянных контактов.
В более развитых странах социальную поддержку оказывает государство,
и такие взаимодействия становятся, возможно, менее значимыми, однако
большую роль в них могут играть добровольные ассоциации — гражданское
общество, обеспечивающее активистам возможности для отстаивания
своих интересов посредством демократического политического участия.
Кроме того, нужно установить, и в этом заключается вторая задача,
способствуют ли укреплению здоровья людей общественные ресурсы капитала
социальных взаимодействий (распространенность в стране социальных
сетей и ассоциаций) и является ли их воздействие дифференцированным
— большим, как было обнаружено в некоторых работах, для людей, интегрированных
в социальные взаимодействия, в отличие от тех, кто оказался в изоляции.
Третья задача связана с анализом «аттитюдной» составляющей социального
капитала — доверия между людьми. Предстоит прояснить, лучше ли самочувствие
у тех людей, которые с доверием относятся к другим, и меняется ли
степень выраженности такой зависимости в странах с неодинаковыми
уровнями общественного развития и укоренения культуры доверительных
межчеловеческих отношений. В обществах, дальше других продвинувшихся
в направлении постмодернизации, формируется культура социальной
толерантности и взаимного доверия между людьми, позволяющая каждому
надеяться на помощь с их стороны, если возникнет такая необходимость,
и испытывать чувство психологического комфорта в дружелюбном социальном
мире. Именно в этих обществах социальный капитал доверия, возможно,
играет наиболее важную роль. Атмосфера социального комфорта может
оказаться особенно благоприятной для здоровья тех, кто разделяет
ценности и нормы этой культуры — относится с доверием к другим людям.
Но те, кто их не разделяет, полагая, что большинству доверять нельзя,
могут, напротив, испытывать стрессы отчуждения и психологической
изоляции, оказывающие на здоровье негативное воздействие.
При решении указанных задач использовались данные репрезентативных
массовых опросов, проведенных в 28 странах Европы (и ее ближайших
соседей) в конце 2008 — начале 2009 гг. в рамках «Европейского социального
исследования» (European Social Survey... 2008; далее — ESS; население
в возрасте 15 лет и старше, средний объем национальной выборки —
около 2000 респондентов), а также статистические сведения об этих
странах Всемирного банка и Всемирной организация здравоохранения.
Изучавшиеся страны: Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Кипр, Латвия, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения,
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария,
Швеция и Эстония.
Состояние здоровья — зависимая переменная — измерялось
в ESS c помощью стандартного анкетного вопроса: «Как Вы оцениваете
состояние своего здоровья в целом? По Вашему мнению, оно ... 1.
Очень хорошее, 2. Хорошее, 3. Среднее, 4. Плохое, 5. Очень плохое»
(эту шкалу можно с известной долей условности, допускаемой задачами
нашего исследования, считать метрической).
«Структурный» социальный капитал на индивидуальном уровне
фиксировали три показателя. Дихотомия живет ли человек один или
не один и индекс частоты встреч на досуге с родственниками, друзьями
и коллегами (количество раз в месяц) говорят о его включенности
в «сильные» социальные связи, а показатель работы (на протяжении
последних 12 месяцев) в политической партии или иной добровольной
ассоциации (направленной на улучшение дел в стране или избежание
принятия неправильных решений) — о вхождении в сети «слабых» связей,
гражданское общество. Об «аттитюдном» капитале индивида позволяет
судить индекс доверия людям (среднее арифметическое трех тесно связанных
оценок, показывающих мнение опрошенных — шкалы 0—10 — о том, можно
ли доверять большинству людей, склонны ли они к обману и готовы
ли прийти на помощь; обсуждение этой операционализации см. Reeskens,
Hooghe 2008). Четыре переменные социальной демографии, которые будут
использоваться в нашем анализе, — пол, возраст (лет), образование
(лет обучения в формальных образовательных учреждениях) и оценка
респондентом своего уровня жизни (1 — жить на такой доход очень
трудно, 2 — довольно трудно, 3 — дохода нам в принципе хватает,
4 — живем, не испытывая материальных затруднений).
Контекстуальные факторы социального капитала, говорящие
о различиях между странами, были получены благодаря агрегированию
индексов индивидуального уровня. Это — доля в стране одиноких людей,
средняя частота встреч в свободное время с близкими людьми и товарищами
по работе, доля лиц, работавших в течение года в той или иной добровольной
общественной организации, а также среднее значение для страны индекса
доверия людям.
Неодинаковое общественное развитие ESS стран измерялось
с помощью индекса, полученного при факторном (компонентном) анализе
трех переменных, отражающих состояние экономики, социального государства
и эффективности управления и демократического контроля (подробнее
см. Русинова, Сафронов 2013). Уровень экономического развития измерялся
по показателю ВНД (валового национального дохода) на душу населения
(GNI per capita, PPP, current international $, 2008) (World Bank
2008a). Выраженность социальной ориентации в государственной политике
— по индексу душевых расходов государства на поддержание здоровья
(Per capita government expenditure on health, PPP, international
$, 2008) (World Health Organization 2011: 127—138, Table 7). Способность
общества и государства контролировать коррупцию отображалась по
композитному показателю, входящему в состав Worldwide Governance
Indicators (WGI, Control of Corruption, 2008) (World Bank 2008b).
Математический анализ эмпирических данных осуществлялся
с помощью методов многоуровневого моделирования, поскольку сведения
о здоровье респондентов и их социальных характеристиках, полученные
в ESS, относятся к первому уровню, представленному индивидами, а
контекстуальные переменные, отражающие различия между странами,
— ко второму уровню, надстроенному над первым. Использовался специализированный
статистический пакет HLM (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling
by Stephen Raudenbush, Anthony Bryk, and Richard Congdon, см. http://www.ssicentral.com/hlm/)
(Raudenbush, Bryk 2002; ниже при описании результатов применяется
система обозначений, принятых в этой книге). Основная разновидность
наших моделей описывается линейными уравнениями со «случайными»
коэффициентами для переменных первого уровня и интеракциями этих
переменных с факторами второго уровня, характеризующими страны.
Состояние здоровья в европейских странах
Национальное здоровье в странах ESS с низким (по европейским
масштабам) уровнем общественного развития очень сильно отличается
от его состояния в государствах с высокими показателями индекса
развития. Эта зависимость отчетливо видна на рис. 1, на котором
представлены средние значения шкалы оценок участниками опросов своего
здоровья (от 1 — очень хорошего до 5 — очень плохого, говорят о
выраженности нездоровья) для стран, упорядоченных по степени развитости.
Так, наиболее развитые страны по нашему индексу — Норвегия,
Дания, Нидерланды, Швейцария — отличаются и лучшим здоровьем населения.
Следом за ними и по развитию и выраженности нездоровья идут Швеция,
Финляндия, Германия и Великобритания (несколько нарушают эту закономерность
Греция и Кипр — при средней в лучшем случае развитости у них лучшие
показатели самочувствия).
На Украине и в России, отличающихся худшими показателями
состояния общественных дел, с наибольшей отчетливостью проявляется
неблагополучие в сфере здоровья народа. Неважно обстоят дела в этой
сфере и во многих других странах из бывшего лагеря социализма —
Латвии, Эстонии, Венгрии, а также Словении, Румынии, Словакии, Польше
и Болгарии, которые тоже заметно уступают по уровню развития продвинутым
странам Европы.
Значение социальных взаимодействий для здоровья и
общественное развитие
Исследование значения социального капитала для здоровья
начнем с проверки предположений о благотворном воздействии на самочувствие
людей (а) сетей социальной поддержки — со стороны близких или коллег
и (б) их активного участия в общественной жизни и влияния на политические
решения посредством работы в гражданских добровольных ассоциациях.
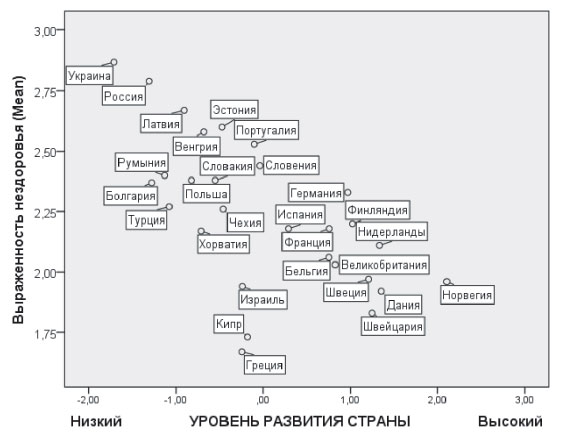
Рисунок 1. Состояние здоровья в странах Европы
и уровень из общественного развития
Поскольку наши показатели «структурного» социального
капитала на индивидуальном уровне — одинокие / неодинокие, частота
встреч на досуге с близким окружением и работа в добровольной организации
— очень слабо связаны между собой, все они были одновременно включены
в уравнение модели 1, представленной в табл. 1.
Таблица 1. Факторы здоровья
в странах Европы: социальные взаимодействия, социальная демография
и общественное развитие (Двухуровневые линейные модели)
|
ПЕРЕМЕННЫЕ
|
Модель 1
|
Модель 2
|
Модель 3
|
|
Y
|
Sig.
|
Y
|
Sig.
|
Y
|
Sig.
|
|
УРОВЕНЬ 1:
|
|
Intercept
|
2.280
|
.000
|
2.279
|
.000
|
2.300
|
.000
|
|
Одинокие / Неодинокие
|
-0.387
|
.000
|
-0.388
|
.000
|
-0.059
|
.000
|
|
Частота встреч на досуге
|
-0.014
|
.000
|
-0.014
|
.000
|
-0.004
|
.000
|
|
Работа в ассоциации
|
-0.079
|
.000
|
-0.077
|
.000
|
-0.004
|
.749
|
|
Пол (Ж=0, М = 1)
|
|
|
|
|
-0.069
|
.000
|
|
Возраст (лет)
|
|
|
|
|
0.020
|
.000
|
|
Образование (лет)
|
|
|
|
|
-0.024
|
.000
|
|
Оценка уровня жизни
|
|
|
|
|
-0.189
|
.000
|
|
УРОВЕНЬ 2:
|
|
Индекс развития страны
|
|
|
-0.193
|
.000
|
-0.109
|
.018
|
|
ИНТЕРАКЦИИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс х Неодинокие
|
|
|
0.104
|
.000
|
-0.007
|
.541
|
|
Индекс х Частота встреч
|
|
|
0.004
|
.001
|
0.001
|
.175
|
|
Индекс х Ассоциации
|
|
|
0.006
|
.676
|
-0.025
|
.072
|
|
Индекс х Пол
|
|
|
|
|
0.046
|
.001
|
|
Индекс х Возраст
|
|
|
|
|
-0.005
|
.000
|
|
Индекс х Образование
|
|
|
|
|
0.002
|
.268
|
|
Индекс х Уровень жизни
|
|
|
|
|
-0.021
|
.014
|
В моделях 1 и 2 N1 (уровень 1, индивиды) = 54138, в модели
3 N1 = 52681; N2 (уровень 2, страны) = 28.
В этой модели коэффициенты связей указанных переменных
со здоровьем были сделаны «случайными» — проверялось, отличаются
ли они в рассматриваемых странах. Отрицательные значения гамма-коэффициентов
для каждой из трех переменных, оказавшиеся статистически значимыми
на высоком уровне, показывают, что у неодиноких людей самочувствие,
как правило, лучше, чем у тех, кто живет в одиночестве, лучше оно
и у тех, кто чаще встречается в свободное время со своими близкими
и знакомыми и кто был вовлечен в работу гражданских ассоциаций.
Дисперсии, характеризующие вариативность этих коэффициентов, также
были статистически значимыми (значения не приводятся), что подтверждает
представление о неодинаковой роли, которую играет социальный капитал
в поддержании здоровья в разных частях Европы.
Эта роль может зависеть, как отмечалось ранее, от уровня
общественного развития страны: социальная поддержка важнее там,
где у человека дефицит ресурсов, необходимых для сохранения здоровья,
и где государство не способно этот дефицит компенсировать за счет
направленной социальной политики. Проверка такого предположения
осуществлялась с помощью модели 2 (табл. 1). В дополнение к модели
1 здесь в уравнение включался фактор второго уровня — индекс общественного
развития и три интеракции этого фактора с каждой из переменных социального
капитала первого уровня. С ростом уровня развития страны, как свидетельствует
значимая гамма для этого индекса, показатель выраженности нездоровья
для ее населения существенно понижается. Кроме того, при этом снижается
и влияние на здоровье переменных социальных взаимодействий с близкими
людьми: об этом говорят значимые гаммы для интеракций индекса развития
страны с дихотомией одинокие / неодинокие и с показателем частоты
встреч с родственниками, друзьями и коллегами (а воздействие работы
в ассоциации остается сходным вне зависимости от степени развитости
страны).
Описанные результаты моделирования наглядно представляют
рис. 2а, 3а и 4а. На двух первых хорошо видно, что в слаборазвитых
странах, таких как Украина или Россия, самочувствие людей, входящих
в сети социальных взаимодействий с окружающими, было намного лучшим,
чем у одиноких или тех, кто был лишен возможности встречаться со
своими родственниками, друзьями, знакомыми или делал это изредка.
В развитых обществах указанные различия проявляются с меньшей отчетливостью.
Работа в добровольной ассоциации, согласно последнему рисунку, положительно
сказывается на здоровье, причем сходным образом в разных частях
Европы, однако такое влияние является очень слабым (хотя статистически
значимым).
Поскольку в сети социальных взаимодействий и ассоциации
с большей вероятностью вовлечены представители определенных социальных
страт (одиноки, например, пожилые, у общественных активистов, как
правило, — высокий уровень образования), в модели 3, приведенной
в табл. 1, анализ социального капитала проводился при контроле переменных
социальной демографии (пола, возраста, образования и воспринимаемого
уровня жизни) и их интеракций с индексом общественного развития.
Работа в ассоциации теперь становится несущественным
для здоровья фактором, и это справедливо для стран с любым уровнем
развития. Становятся статистически незначимыми и две другие интеракции,
свидетельствующие о влиянии на здоровье сетей социальной поддержки
в зависимости от уровня развития страны. Это отчетливо видно на
рисунках 2б, 3б и 4б. При учете неравномерного распределения ресурсов
социального капитала по уровням демографической и социальной структуры,
его влияние на здоровье резко сокращается, особенно — в менее развитых
странах. Именно в этих странах те, кто больше других нуждается в
социальной поддержке — люди старших возрастов и представители нижних
общественных слоев, оказываются ее лишены.
Отметим, что гамма-коэффициенты в третьей модели, характеризующие
влияние на здоровье социальной демографии в разных общественных
контекстах, подтверждают полученные нами ранее результаты (при использовании
логистического моделирования, см. Русинова, Сафронов 2013; 2014).
У высокообразованных людей самочувствие гораздо лучше по сравнению
с теми, кто не получил хорошего образования, и эта закономерность
сходным образом проявляется в обществах с неодинаковым уровнем развития.
Высокий уровень жизни способствует поддержанию здоровья, что особенно
заметно в том случае, когда индивидуальные ресурсы удается полнее
использовать в условиях, которые обеспечивает общественное развитие.
В менее развитых странах у женщин здоровье заметно хуже, чем у мужчин,
но с ростом значений индекса общественного развития эти различия
постепенно стираются. Если в отстающих странах преобладающее большинство
людей старших возрастов страдают от неважного самочувствия, очень
сильно отличаясь в этом отношении от молодежи, то в наиболее развитых
государствах такой разрыв резко сокращается — вследствие сохранения
даже очень пожилыми гражданами активного здоровья.
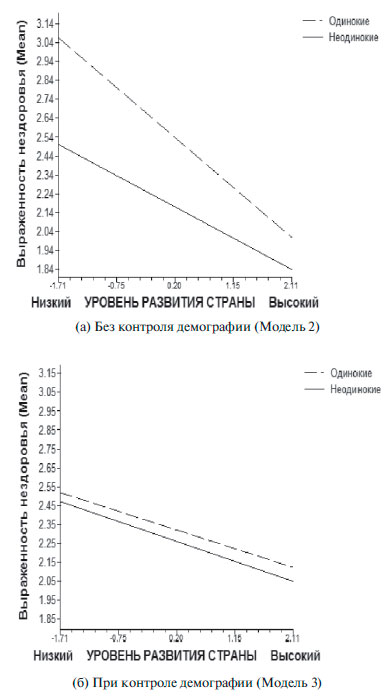
Рисунки построены при средних значениях не
отображенных на данном графике переменных
Рисунок 2. Здоровье одиноких и неодиноких людей:
значение общественного развития
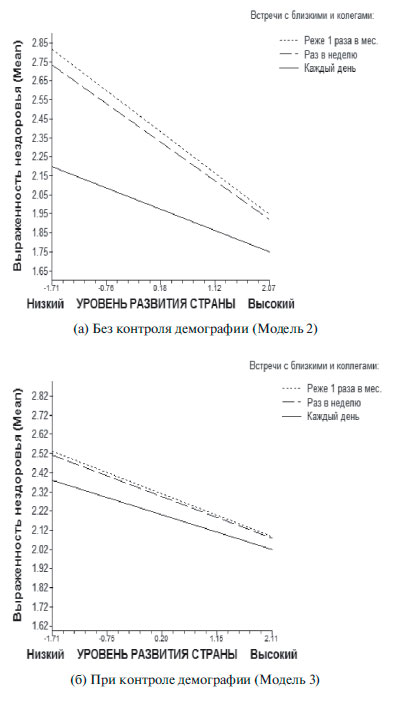
Рисунки построены при средних значениях не отображенных
на данном графике переменных
Рисунок 3. Здоровье т встречи с близким окружением
в контексте общественного развития
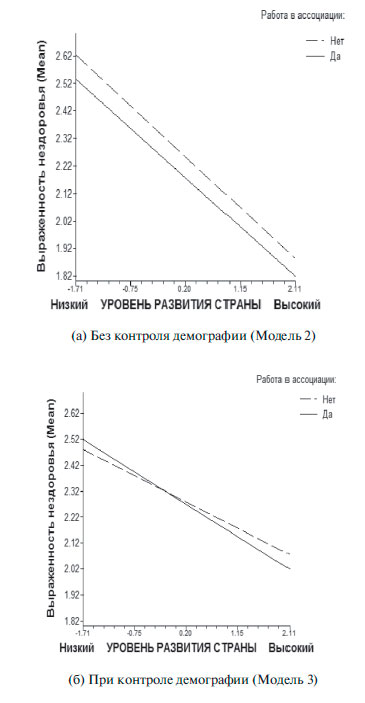
Рисунки построены при средних значениях не отображенных
на данном графике переменных
Рисунок 4. Здоровье, работа в добровольной ассоциации
и общественное развитие
Таблица 2. Значение для здоровья общественных ресурсов
социальных взаимодействий (Двухуровневые линейные модели)
|
ПЕРЕМЕННЫЕ
|
Модель 4
|
Модель 5
|
Модель 6
|
|
Y
|
Sig.
|
Y
|
Sig.
|
Y
|
Sig.
|
|
УРОВЕНЬ 1:
|
|
Intercept
|
2.282
|
.000
|
2.280
|
.000
|
2.282
|
.000
|
|
Неодинокие
|
-0.054
|
.000
|
|
|
|
|
|
Частота встреч на досуге
|
|
|
-0.004
|
.000
|
|
|
|
Работа в ассоциации
|
|
|
|
|
-0.010
|
.470
|
|
УРОВЕНЬ 2:
|
|
Доля: одинокие
|
0.007
|
.435
|
|
|
|
|
|
Средняя частота встреч
|
|
|
-0.016
|
.398
|
|
|
|
Доля: работали в ассоциации
|
|
|
|
|
-0.004
|
.077
|
|
ИНТЕРАКЦИИ:
|
|
Доля: Одинокие х Неодинокие
|
0.005
|
.007
|
|
|
|
|
|
Средняя частота встреч х Частота встреч
|
|
|
-0.000
|
.533
|
|
|
|
Доля: Работали х Работа в ассоциации
|
|
|
|
|
-0.001
|
.086
|
Во всех моделях на 1-ом уровне контролировались переменные
пола, возраста, образования, оценок уровня жизни индивидов и учитывалось,
что их связи со здоровьем в изучавшихся странах неодинаковы. N1
(уровень 1, индивиды): Модель 4 = 53344, Модель 5 = 52951, Модель
6 = 53098. N2 (уровень 2, страны) = 28.
Улучшению здоровья человека могут способствовать не
только социальные сети «сильных» и «слабых» связей, но и, как предполагается
в некоторых исследованиях, накопление таких сетевых ресурсов в обществе
и возможности их использования как раз теми людьми, которые в такие
сети вовлечены. Эти соображения проверялись в моделях 4, 5 и 6,
представленных в табл. 2. Каждая из них содержала на первом уровне
одну из наших трех индивидуальных переменных социальных взаимодействий,
на втором уровне соответствующую агрегированную характеристику общественного
социального капитала, а также интеракции между ними (в каждом уравнении
осуществлялся контроль четырех переменных социальной демографии
и учитывалось их неодинаковое воздействие на здоровье в разных странах).
Согласно модели 4, фактор второго уровня, свидетельствующий
о представительстве в стране одиноких людей, не оказывает самостоятельного
влияния на самочувствие граждан (гамма статистически незначима).
Однако интеракция этого фактора с дихотомией одинокие / неодинокие
оказалась статистически значимой: если в странах, где много одиноких
людей, здоровье тех, кто живет один, не отличается от его состояния
у живущих в семье, то по мере сокращения в обществе доли одиноких
улучшение самочувствия особенно отчетливо происходит как раз у тех,
кто не один. Отсутствие семьи с особенной остротой ощущается тогда,
когда у других она есть, и, вероятно, это порождает углубленные
стрессы изоляции, сказывающиеся, в конечном счете, на состоянии
здоровья одиноких людей. Правда, несмотря на статистическую значимость,
описанной закономерности все же не следует придавать большого значения
(она едва намечается, даже в странах с наибольшим ресурсом семейных
отношений разница по нашей 5-ти членной шкале оценок здоровья между
одинокими и неодинокими — при средних значениях прочих контролируемых
переменных — составляет лишь 0.11).
Модели 5 и 6 также не подтверждают предположения о влиянии
общественных ресурсов социальных связей с близкими и знакомыми и
распространенности гражданской активности на здоровье. Оба эти контекстуальных
фактора оказались несущественными, как и их интеракции с соответствующими
переменными социального капитала первого уровня.
Таким образом, соображения о позитивном значении для
здоровья общественных запасов «структурного» социального капитала
или о негативном его влиянии на самочувствие людей, оказавшихся
в социальной изоляции, не находят подтверждения в нашем исследовании.
Влияние доверия между людьми на здоровье и общественный
контекст
В обзоре исследований отмечалось, что для здоровья,
возможно, важен еще один аспект социального капитала — доверие между
людьми. Сконструированный нами индекс доверия очень слабо коррелирует
с показателями «поведенческого» социального капитала (заслуживает
упоминания — в соответствии с теоретическим прогнозом — связь для
всех участников ESS между работой в добровольной ассоциации и доверием,
r = 0.15, p<0.000), и анализируется ниже отдельно от них.
Результаты моделирования, посвященного вопросу о влиянии
на здоровье доверия людям, сведены в табл. 3 (во всех моделях осуществлялся,
как и прежде, контроль индивидуальной социальной демографии и композиции
населения стран по четырем соответствующим переменным).
Модель 7 показывает, что участники опросов, доверяющие
большинству людей, испытывают, как правило, меньше проблем со здоровьем,
чем те, кто другим не верит. Как показывает дисперсия, характеризующая
вариативность таких зависимостей в Европе, они не случайным образом
отличаются в изучавшихся нами странах. В модели 8 предпринимается
попытка объяснить эти вариации с помощью индекса общественного развития.
Кроме уже известного нам факта — снижения нездоровья с ростом значений
этого индекса, модель показывает, что между ним и показателем доверия
есть статистически значимая (на высоком уровне) интеракция. Общественное
развитие сопровождается ускоренным улучшением самочувствия как раз
у тех, кто доверяет другим.
В следующем уравнении — модель 9 — проверялись полученные
нашими предшественниками результаты, согласно которым распространение
в обществе доверительных отношений способствует по преимуществу
укреплению здоровья тех людей, которые сами разделяют эту норму,
и может, напротив, негативно повлиять на его состояние, если человек
не вписывается в доминирующую культуру. Значимая интеракция фактора
культуры доверия и переменной индивидуального доверия подтверждает
эти результаты. Как и при рассмотрении индекса общественного развития,
при учете степени распространенности этой культуры нам удается объяснить
69 % дисперсии, свидетельствующей о неодинаковом влиянии индивидуального
доверия на здоровье в ESS странах.
Таблица 3. Влияние
доверия между людьми на здоровье в европейском контексте (Двухуровневые
линейные модели)
|
ПЕРЕМЕННЫЕ
|
Модель 7
|
Модель 8
|
Модель 9
|
Модель 10
|
|
Y
|
Sig.
|
Y
|
Sig.
|
Y
|
Sig.
|
Y
|
Sig.
|
|
УРОВЕНЬ 1:
|
|
Intercept
|
2.295
|
.000
|
2.294
|
.000
|
2.294
|
.000
|
2.294
|
.000
|
|
Доверие людям
|
-0.044
|
.000
|
-0.044
|
.000
|
-0.044
|
.000
|
-0.044
|
.000
|
|
УРОВЕНЬ 2:
|
|
Индекс развития страны
|
|
|
-0.254
|
.000
|
|
|
|
|
|
Культура доверия
|
|
|
|
|
-0.064
|
.166
|
|
|
|
Постмодернизация
|
|
|
|
|
|
|
-0.221
|
.000
|
|
ИНТЕРАКЦИИ:
|
|
Индекс х Доверие
|
|
|
-0.014
|
.000
|
|
|
|
|
|
Культура доверия х Доверие
|
|
|
|
|
-0.013
|
.000
|
|
|
|
Постмодернизация х Доверие
|
|
|
|
|
|
|
-0.015
|
.000
|
|
ДИСПЕРСИИ:
|
т
|
Sig.
|
т
|
%Exp
|
т
|
%Exp
|
т
|
%Exp.
|
|
Влияние: Доверие людям
|
.00029
|
.000
|
.00009
|
69%
|
.00009
|
69%
|
.00007
|
76%
|
Во всех моделях контролировались на 1-ом уровне переменные
пола, возраста, образования и оценок уровня жизни индивидов и
принималось во внимание, что их связи со здоровьем в изучавшихся
странах неодинаковы. Доли объясненных дисперсий (%Exp.) — по отношению
к дисперсии модели 7. N1 (уровень 1, индивиды) = 52505; N2 (уровень
2, страны) = 28.
Укоренение культуры доверия в европейских странах было
связано с ростом благосостояния людей, их социальной защиты со стороны
государства и гражданского демократического контроля за деятельностью
властей — индекс общественного развития и уровень доверительных
отношений в стране тесно взаимосвязаны (г = 0.85, p<0.000). В
модели 10 рассматривался интегральный показатель продвижения страны
в направлении постмодернизации, сконструированный с помощью факторного
(главных компонент) анализа трех переменных, входящих в индекс развития,
и агрегированного индикатора доверия. Этот показатель позволяет
с несколько большей полнотой объяснить интересующую нас вариативность
влияния индивидуального доверия на здоровье в Европе, чем факторы
общественного развития или культуры доверия по отдельности (объясненная
дисперсия 76% по отношению к 69%). Иллюстрацией к выявленной нами
зависимости служит рис. 5.
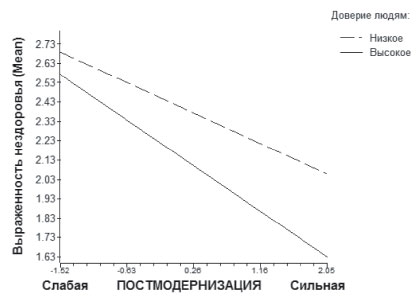
Линии представляют показатели нездоровья, усредненные
для нижнего и верхнего квартиля индекса индивидуального доверия,
при средних значениях социально-демографических переменных.
Рисунок 5. Здоровье и доверие между людьми в
контексте общественных изменений (по результатам моделирования)
Согласно приведенным на рис. 5 данным, в обществах,
менее других продвинувшихся по пути постмодернизации, индивидуальное
доверие слабо влияет на самочувствие: средние оценки нездоровья
в нижнем и верхнем квартилях индекса — 2.69 и 2.57. По мере продвижения
по этому пути такое влияние заметно усиливается, разрыв между соответствующими
показателями увеличивается — их значения для стран, располагающихся
на противоположном полюсе шкалы постмодернизации, составляют 2.06
и 1.63.
Наш анализ показывает, что в обществе постмодерна один
из важных факторов укрепления здоровья — доверие людям. Это связано,
по-видимому, с дальнейшим нарастанием значимости в этом обществе
социальных взаимодействий, выходящих за рамки ближайшего окружения
на работе и дома, и сопряженного с этим культурного изменения в
направлении социальной терпимости и доверия людям. Меньшинство,
остающееся не интегрированным в эти процессы, может оказаться подверженным
длительным стрессам, обусловленным социальным и культурным отчуждением.
И результат этого отчуждения — неважное самочувствие.
Заключение
Одно из направлений в исследованиях влияния социального
капитала на здоровье было связано в последние годы с изучением изменений
этого влияния в разных социетальных контекстах. Результаты, полученные
в пока еще немногочисленных работах, нередко противоречивы, зависят
от изучавшихся данных и методов анализа и заслуживают дополнительной
проверки. В настоящей работе представлен сравнительный анализ состояния
здоровья жителей 28 европейских стран, базирующийся на материалах
Европейского социального исследования (4-й раунд, 2008 г.) и мировой
статистики, к которым применялись статистические методы двухуровневого
линейного моделирования.
Выявленные факты подтверждают, что социальный капитал,
обретаемый человеком благодаря вхождению в сети взаимодействий с
близким окружением, работе в добровольных ассоциациях граждан и
доверительному отношению к людям, помогает поддержанию его здоровья.
Систематические контакты с родственниками, друзьями и знакомыми
особенно важны для здоровья в странах с невысоким уровнем развития
экономики, социального государства и неэффективным государственным
управлением, тогда как в развитых странах их значение уменьшается
вследствие государственной защиты и высокого уровня жизни значительной
части населения. Однако именно в первых странах такой социальный
капитал неравномерно распределяется по социальной структуре: люди,
которые больше всего в нем нуждаются — представители старших возрастных
категорий и нижних общественных слоев, оказываются его лишены. Общественные
ресурсы «структурного» капитала, указывающие на распространенность
в обществе социальных сетей и ассоциаций, не влияют, по нашим данным,
на здоровье — ни прямо, ни через интеракции с его индивидуальными
запасами. Доверие индивида другим людям создает предпосылки для
улучшения его самочувствия, причем воздействие этой переменной на
здоровье усиливается по мере продвижения страны в направлении постмодернизации
— высокого уровня развития общественных структур и культурного изменения,
предполагающего укоренение в обществе норм доверия.
Литература
- Русинова Н, Сафронов В. Социальные особенности здоровья в Европе
и России: влияние индивидуальных и контекстуальных факторов //
Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований,
2013, 3, с. 16—32.
- Русинова Н.Л., Сафронов В.В. Состояние здоровья в Европе и России:
общественный контекст и социальные неравенства // Социологический
журнал, 2014 (в печати).
- Barefoot, J.C., Maynard K.E., Beckham J.C., Brummett B.H., Hooker
K., and Siegler I.C. Trust, health, and longevity, Journal of
Behavioral Medicine, 1998, 21 (6), pp. 517—526.
- Berkman L.F., and Glass T. Social Integration, Social Networks,
Social Support, and Health, in: eds. L.F. Berkman, and I. Kawachi,
Social epidemiology. Cambridge: Oxford University Press, 2000,
pp. 137—173.
- Bobak M., Murphy M., Rose R., Marmot M. Societal characteristics
and health in the former communist countries of Central and Eastern
Europe and the former Soviet Union: a multilevel analysis, Journal
of Epidemiology and Community Health, 2007, 61 (11), pp. 990-996.
- Bourdieu P. The forms of capital, in: ed. J. Richardson, Handbook
of Theory and Research for the Sociology of Education. NewYork:
Greenwood Press, 1986, pp. 241-258.
- Carlson P. Self-perceived health in East and West Europe: Another
European health divide, Social Science and Medicine, 1998, 46
(10), pp. 1355-1366.
- Carlson P. The European health divide: a matter of financial
or social capital?, Social Science and Medicine, 2004, 59 (9),
pp. 1985-1992.
- Carpiano R.M. Neighborhood social capital and adult health:
an empirical test of a Bourdieu-based model, Health and Place,
2007, 13 (3), pp. 639-655.
- Cohen, Sh. Social Relationships and Health, American Psychologist,
2004, 59 (8), pp. 676-684.
- Coleman J.S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital,
The American Journal of Sociology, 1988, 94 (Supplement: Organizations
and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the
Analysis of Social Structure), pp. S95-S120.
- Diez Roux A.V. Bringing context back into epidemiology: Variables
and fallacies in multilevel analysis, American Journal of Public
Health, 1998, 88 (2), pp. 216-222.
- Diez-Roux A.V. Multilevel analysis in public health research,
Annual Review of Public Health, 2000, 21 (1), pp. 171-192.
- Duncan C., Jones K., and Moon G. Context, composition and heterogeneity:
Using multilevel models in health research, Social Science and
Medicine, 1998, 46 (1), pp. 97117.
- Eckersley R. Is modern western culture a health hazard?, International
Journal of Epidemiology, 2006, 35 (2), pp. 252-258.
- Engstrom K., Mattsson F., Jaerleborg A., Hallqvist J. Contextual
social capital as a risk factor for poor self-rated health: A
multilevel analysis, Social Science and Medicine, 2008, 66 (11),
pp. 2268-2280.
- European Social Survey Round 4 Data. Data file edition 4.1.
Norwegian Social Science Data Services, Norway — Data Archive
and distributor of ESS data. URL: <http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/>
- Forbes A. and Wainwright S.P. On the methodological, theoretical
and philosophical context of health inequalities research: A critique,
Social Science and Medicine, 2001, 53 (6), pp. 801-816.
- Franzini L., Caughy M., Spears W., and Fernandez Esquer M. E.
Neighbourhood Economic Conditions, Social Processes, and Self-rated
Health in Low-income Neighbourhoods in Texas: A Multilevel Latent
Variables Model, Social Science and Medicine, 2005, 61 (6), pp.
1135-1150.
- Granovetter, M. S. The Strength of Weak Ties // American Journal
of Sociology, 1973, 78 (5), pp. 1360-1380.
- Han S., Kim H., and Lee H-S. A multilevel analysis of social
capital and self- reported health: evidence from Seoul, South
Korea, International Journal for Equity in Health, 2012, 11 (1),
pp. 1-12.
- Harpham T. The measurement of community social capital through
surveys, in: eds. I. Kawachi, S.V. Subramanian, and D. Kim, Social
capital and health. New York, NY: Springer, 2008, pp. 51-62.
- Harpham T., Grant E., and Thomas E. Measuring social capital
within health surveys: key issues, Health Policy and Planning,
2002, 17 (1), pp. 106-111.
- Hawe P., Shiell A. Social capital and health promotion: a review,
Social Science and Medicine, 2000, 51 (6), pp. 871-885.
- Hyppa M.T. and Maki J. Individual-Level Relationships between
Social Capital and Self-Rated Health in a Bilingual Community,
Preventive Medicine, 2001, 32 (2), pp. 148155.
- Islam M.K., Merlo J., Kawachi I., Lindstrom M., and Gerdtham
U-G. Social capital and health: Does egalitarianism matter? A
literature review, International Journal for Equity in Health,
2006, 5 (1), pp. 3—30.
- Jen M.H., Sund E.R., Johnston R., Jones K. Trustful societies,
trustful individuals, and health: An analysis of self-rated health
and social trust using the World Value Survey, Health and Place,
2010, 16 (5), pp. 1022—1029.
- Kawachi I. Commentary: Social capital and health: making the
connections one step at a time, International Journal of Epidemiology,
2006, 35 (4), pp. 989—993.
- Kawachi I., Berkman L.F. Social cohesion, social capital, and
health, in: eds. L.F. Berkman, I. Kawachi, Social epidemiology.
New York: Oxford University Press, 2000, pp. 174-190.
- Kawachi I., Kennedy B. P., Lochner K., and Prothrow-Stith D.
Social Capital, Income Inequality, and Mortality, American Journal
of Public Health, 1997, 87 (9), pp. 1491-1498.
- Kawachi I. Kennedy B.P., and Glass R. Social Capital and Self-Rated
Health: A Contextual Analysis, American Journal of Public Health,
1999, 89 (8), pp. 1187-1193.
- Kawachi I., Kim D., Coutts A., Subramanian S. Commentary: reconciling
the three accounts of social capital, International Journal of
Epidemiology, 2004, 33 (4), pp. 682-690.
- Kawachi I., Subramanian S.V., and Kim D. Social capital and
health: A decade of progress and beyond, in: eds. I. Kawachi,
S.V. Subramanian, and D. Kim, Social capital and health. New York,
NY: Springer, 2008, pp. 1-26.
- Kennedy B.P., Kawachi I., and Brainerd E. The Role of Social
Capital in the Russian Mortality Crisis, World Development, 1998,
26 (11), pp. 2029-2043.
- Kennelly B., O’Shea E., Garvey E. Social capital, life expectancy
and mortality: a cross-national examination, Social Science and
Medicine, 2003, 56 (12), pp. 2367-2377.
- Kim D., Kawachi I. A Multilevel Analysis of Key Forms of Community-
and Individual-Level Social Capital as Predictors of Self-Rated
Health in the United States, Journal of Urban Health, 2006, 83
(5), pp. 813-826.
- Lindstrom C. and Lindstrom M. “‘Social capital,’’ GNP per capita,
relative income, and health: an ecological study of 23 countries,
International Journal of Health Services, 2006, 36 (4), pp. 679-696.
- Lochner, K. A., Kawachi, I., Brennan, R. T., and Buka, S. L.
Social capital and neighborhood mortality rates in Chicago, Social
Science and Medicine, 2003, 56 (8), pp. 1797-1805.
- Lochner K., Kawachi I., and Kennedy B. P. Social capital: A
guide to its measurement, Health and Place, 1999, 5 (4), pp. 259-270.
- Lomas J. Social capital and health: implications for public
health and epidemiology, Social Science and Medicine, 1998, 47
(9), pp. 1181-1188.
- Lynch J., Smith G. D., Hillemeier M., Shaw M., Raghunathan T.,
Kaplan G. (2001). Income inequality, the psychosocial environment,
and health: comparisons of wealthy nations, The Lancet, 2001,
358 (9277), pp. 194-200.
- Macinko J., and Starfield B. The utility of social capital in
research on health determinants, The Milbank Quarterly, 2001,
79 (3), pp. 387-427.
- Mansyur C., Amick B.C., Harrist R.B., Franzini L. Social capital,
income inequality, and self-rated health in 45 countries, Social
Science and Medicine, 2008, 66 (1), pp. 43-56.
- Meng T. Chen H. A multilevel analysis of social capital and
self-rated health: Evidence from China, Health and Place, 2014,
27 (in progress), pp. 38-44.
- Murayama H., Fujiwara Y., and Kawachi I. Social capital and
health: A review of Prospective Multilevel Studies, Journal of
Epidemiology, 2012, 22 (3), pp. 179—187.
- Navarro V. and Shi L. The political context of social inequalities
and health, Social Science and Medicine, 2001, 52 (3), pp. 481—491.
- Poortinga W. Social relations or social capital? Individual
and community health effects of bonding social capital, Social
Science and Medicine, 2006a, 63 (1), pp. 255—270.
- Poortinga W. Social capital: An individual or collective resource
for health?, Social Science and Medicine, 2006b, 62 (2), pp. 292—302.
- Popay J. Social Capital: the Role of Narrative and Historical
Research, Journal of Epidemiology and Community Health, 2000,
54 (6), p. 401.
- Putnam R.D. Bowling Alone: the Collapse and Revival of American
Community. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R. Making Democracy Work:
Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University
Press, 1993.
- Raudenbush S.W., Bryk A.S. Hierarchical Linear Models: Applications
and Data Analysis Methods. Thousand Oaks, CA: Sage, 2002.
- Reeskens T., Hooghe M. Cross-cultural measurement equivalence
of generalized trust. Evidence from the European Social Survey
(2002 and 2004), Social Indicators Research, 2008, 85 (3), pp.
515-532.
- Rose R. How Much does Social Capital Add to Individual Health?
A Survey Study of Russians, Social Science and Medicine, 2000,
51 (9), pp. 1421-1435.
- Rostila M. Social capital and health in European welfare regimes:
a multilevel approach, Journal of European Social Policy, 2007,
17 (3), pp. 223-239.
- Social Capital Debate, International Journal of Epidemiology,
2004, 33 (4), pp. 667-709.
- Social capital and health, eds. I. Kawachi, S.V. Subramanian,
and D. Kim. New York, NY: Springer, 2008.
- Snelgrove J.W., Pikhart H., Stafford M. A multilevel analysis
of social capital and selfrated health: evidence from the British
Household Panel Survey, Social Science and Medicine, 2009, 68
(11), pp. 1993-2001.
- Subramanian S. V. and Kawachi I. Income inequality and health:
What have we learned so far?, Epidemiologic Reviews, 2004, 26
(1), pp. 78-91.
- Subramanian S.V., Kim D.J., and Kawachi I. Social Trust and
Self-Rated Health in US Communities: a Multilevel Analysis, Journal
of Urban Health, 2002, 79 (4), Supplement 1, pp. S21-S34.
- Szreter S. and Woolcock M. Health by association? Social capital,
social theory, and the political economy of public health, International
Journal of Epidemiology, 2004, 33 (4), pp. 650-667.
- Veenstra G. Social capital, SES and health: An individual-level
analysis, Social Science and Medicine, 2000, 50 (5), pp. 619-629.
- Veenstra G. Location, Location, Location: Contextual and Compositional
Health Effects of Social Capital in British Columbia, Canada,
Social Science and Medicine, 2005, 60 (9), pp. 2059-2071.
- Wilkinson R. Unhealthy societies: The afflictions of inequality.
London: Routledge, 1996.
- World Bank. GNI per capita, PPP, current international $, 2008a.
URL: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD>.
- World Bank. Worldwide Governance Indicators (WGI). Control of
Corruption, 2008b. URL: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- World Health Organization. World Health Statistics 2011. Geneva:
WHO Press, 2011.
[1] Исследование
выполнено при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00697
[2] Русинова Нина Львовна —
кандидат экономических наук, зав. сектором социологии здоровья Социологического
института РАН
[3] Сафронов Вячеслав Владимирович
— старший научный сотрудник Социологического института РАН
|

