|
|
 |
Институциональные
рамки старости
|
|
Над темой номера работал
|
 |
|
Алексей ЛЕВИНСОН
|
|
Новая реальность и старые подходы
Кто бы ни становился верховным властителем в России,
он понимал себя именно так. И для местного, малого правителя оставались
неограниченными человеческий ресурс и возможность распоряжения им.
От Петра до Сталина Россия побеждала превосходством в живой силе.
Знаменитая формула «бабы новых нарожают», это позиция генералов
и маршалов, так обосновывающих свое право тратить «народ», тех,
кого народили. Даже в мирное время «потери в живой силе» до
определенного уровня считались в советских и считаются в российских
вооруженных силах нормой, и не влекут за собой той ответственности
командования, которую предполагают, например, несчастные случаи
на производстве для руководителей такового.
До поры культура самого многодетного и многочисленного
народа не воспрещала такое распоряжение его жизнями. Жалеть себя
и подобных себе не приходилось – нас миллионы. Гибель в бою или
в драке, от вина или от петли в такой культуре предпочтительнее
смерти от старости13.
При таком отношении к жизням молодых мужчин старых мужчин просто
не должно было оставаться в сколько-нибудь значимом количестве.
Сегодняшняя Россия находится на другом этапе демографического
перехода. Рождаемость среди урбанизированного (да и у большей части
сельского) населения является стабильно низкой, население воспроизводит
себя по преимуществу за счет единственных детей, что есть суженное
и сужающееся воспроизводство. Большая часть населения России в отношении
низкой рождаемости (но не в отношении высокой смертности) находится
в том же демографическом положении, что население Западной Европы,
западного мира в широком смысле слова. В последнем пребывание в
состоянии, когда общество состоит из единственных детей, существенно
повлияло на систему ценностей. Широко известные нам (заочно и со
стороны) принципы, делающие отдельного человека, личность основной
ценностью, имели свои предпосылки в культурной традиции западноевропейского
общества, но стали общераспространенными и конститутивными для социальной
организации общества именно в этой демографической ситуации. Общество
воспроизводит себя через людей, каждый из которых уникален для своей
семьи, а далее и для общества, для его институтов.
Ценность человеческой жизни, уже хотя бы как физического
существования отдельного индивида, становится очень высокой. Успехи
медицины и здравоохранения в целом создают возможность жить, быть
живыми человеческими существами, которые в предыдущие эпохи считались
и являлись нежизнеспособными и не участвовали в жизни. На этапе
становления нынешней культуры малодетного общества отмечались попытки
государственными мерами увеличить число или долю здоровых и избавиться
от нездоровых. Мы имеем в виду евгеническую идеологию и практику
в нацистской Германии. Что касается практики, то она у нас отсутствует,
но идея и идеология привлекательны для части нашего населения. Это
нам показали наши собственные исследования, а далее дискуссия в
СМИ14.
Для большинства обывателей, как впрочем, и для многих
профессионалов, характерна такая позиция: человеческие существа,
чье психофизиологическое состояние отличается от того, которое воспринимается
в общественном сознании как норма, должны быть удалены из общественной
жизни, но само их существование должно поддерживаться. Для того
существуют на содержании государственных и муниципальных бюджетов
специальные заведения. Уроды и инвалиды обречены на социальную смерть,
но на физическое выживание. Они должны содержаться в специальных
закрытых учреждениях или, если они живут в семьях, то пребывать
взаперти как горе и проклятие этой семьи, обязанной оберегать такого
индивида от общества, а общество от него. Эта идеология и практика
эксклюзии целенаправленно (прежде всего, усилиями институтов гражданского
общества) искореняется в упомянутых западных обществах. Начало такого
процесса отмечается и у нас15.
Вот данные, полученные в ходе исследований ВЦИОМ и Левада-центра.
Мы задавали целую серию вопросов о том, как следовало бы поступить
с категориями людей, которые являются «другими» (или дословно «чье
поведение отличается от общепринятого»). Наиболее характерные трансформации
пережило отношение к тем, кого мы в ходе первого исследования назвали
«родившимися неполноценными».
Как видно из рис. 10, за период 1989-2008 годов общество
прошло значительную дистанцию по изменению нормы на отношение к
одной из категорий «других». Готовых дать ответ «ликвидировать»
т.н. родившихся неполноценными стало гораздо меньше, они почти целиком
переместились в число готовых дать ответ об оказании им помощи.
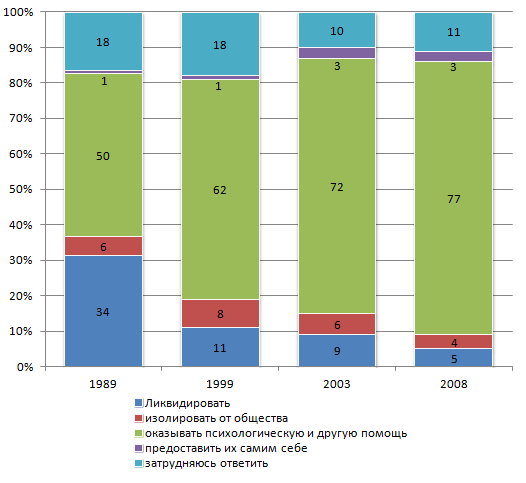
Рисунок 10. Установки на отношение к «родившимся неполноценными»
(в % от числа опрошенных)
Вместе с тем, рис. 11 с данными 2006 года об отношении
к «проблемным» группам населения – «если бы они оказались Вашими
соседями» - показывает, что физические и умственные отклонения,
болезни продолжают «отпугивать» вплоть до половины обывателей, но
толерантное отношении – или хотя бы признание такого отношения за
образец – характеризует другую половину.
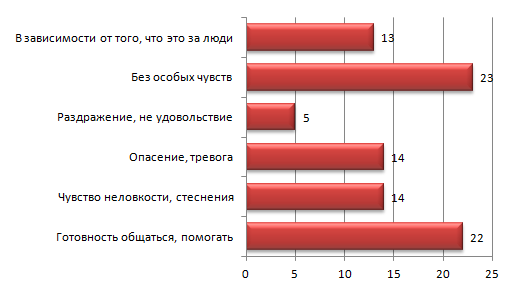
Рисунок 11. Установки в отношении семей с т.н. «умственно
неполноценными» (в % от числа опрошенных)
О распространении сочувствия, готовности помогать таким
людям, как и негативных чувствах в их адрес, говорят другие данные
того же опроса (рис. 12).

Рисунок 12. Отношение к т.н. «умственно неполноценным»
(в % от числа опрошенных)
Отношение к инвалидам, особенно – инвалидам от рождения
или с детства, еще более того, – к тем, чьи умственные способности
отличаются от статистически средних, претерпело сильнейшие трансформации
в западной культуре. Мы связываем их именно с процессами «демографического
перехода», хотя их актуальным политическим контекстом оказалось
развитие гражданских институтов как часть процессов современного
развития. По этой причине отличие нравов в нашей стране от этих
трендов получило трактовку в рамках традиции «догоняющей модернизации».
К нам стали приходить соответствующие установки – сперва как авангардные
практики элитных групп общества, а затем, что весьма характерно,
как директивные установки управляющих инстанций16.
Тема отношения к «другим», «не таким как все», из глубоко маргинальной
вышла на острие политики.
Опыт показывает, что изменение отношения к жизням, которые
сами не способны обосновать свое существование ни экономически,
ни морально, и сами не способны его обеспечить, является системным.
Если отыскиваются общие ценностные основания для того, чтобы такие
жизни были сберегаемы не только специально выделенными общественными/государственными
институтами (клиниками, приютами, интернатами и пр.), не только
семьями, для которых это жизни родных, но обществом в целом, это
сказывается на судьбе не только младенцев, но и стариков.
Напомним, что усилия по инклюзии, возвращении этих отверженных
в общество, это лишь одна из манифестаций культуры, центрированной
на индивиде. С разрушением госсоциалистических коллективистских
форм социального бытия индивидуализм своего рода приходит и к нам17.
Меняется отношение к ценности личности – в первую очередь - среди
женщин, в их качестве матерей18.
Евроориентированная часть элиты, т.н. средний класс, в своих практиках
воспитания постепенно также переходит к индивидуалистическим моделям,
к пониманию отдельных прав личности. Но институты российского общества
в этой части трансформировались очень медленно. А такой парадигмальный
и образцовый для российской общественной системы институт, как армия,
не изменился вовсе, и устроен так же, как был тогда, когда человеческие
жизни производились семьями в массовом порядке и были, о чем говорилось,
расходным материалом, воспроизводимым ресурсом для вооруженных сил.
Вопрос о том, какая у нас армия и каково отношение к
ней, является в этом смысле вопросом о модальном возрасте отдельных
групп нашего общества. Опросы относительно готовности направить
своего ребенка (сына, брата, внука) на действительную службу дали
такую картину: российское общество предстает расколотым надвое по
отношению к тому, какая армия нужна стране – контрактная или набираемая
по призыву, а также по вопросу об отношении к призыву: желать или
не желать молодому человеку идти на срочную службу.
Но если говорить только о людях старшего возраста, то
они в наименьшей степени информированы о положении в армии, их позиции
в наибольшей степени определяются не актуальным жизненным опытом
и актуальной ситуацией, а неким прошлым опытом и идеологическими
установками. Для них армия предстает не столько институтом прямой
социализации (воспитания и перевоспитания) пришедших туда по призыву
молодых людей, сколько институтом косвенного воспитательного воздействия
на все общество в целом. Для этих людей армия является одним из
столпов государственности и государства, Они имеют в виду не реальную
армию (о которой они или не знают, или которую не имеют в виду),
а армию как символ19.
В результате в неформальной сфере, в «обществе» милитаристическая
природа российского государства поддерживается и воспроизводится
не только и не столько за счет «военных», сколько за счет стариков
и старушек. В этом проявляется консервативная социальная функция
старости, о чем еще придется говорить, рассматривая ее как институт.
13 «От чего же
умирает так много российских мужчин в столь сравнительно молодом
возрасте? Список причин возглавляют сердечно-сосудистые заболевания,
за которыми следуют "внешние воздействия". Последние,
к которым относятся помимо прочего убийства, самоубийства и несчастные
случаи, в расчете на число жителей встречаются в России в четыре
раза чаще, чем в странах ЕС. Злоупотребление алкоголем является
причиной 72 процентов случаев убийств и 42 процентов - самоубийств.
Сердечно-сосудистые заболевания оказываются также связанными
с чрезмерным употреблением алкоголя… Сегодня россияне старше 14
лет употребляют в среднем от 15 до 18 литров чистого алкоголя в
год…В типичных российских промышленных городах от 31 до 52
процентов смертельных случаев среди мужчин связаны с алкоголем».
См.: Зиверт Ш., Захаров С., Клингхольц Р. Исчезающая мировая
держава. Демографическое будущее России и других бывших союзных
государств. Перевод с немецкого языка Ю. Штраух // Берлин, Berlin
Institute for Population and Development, 2011, 1, с. 24.
14 См. Никонов А.
Добей, чтоб не мучился // СПИД-инфо, 2009 № 25.
15 Королева С.,
Левинсон А. Организации негражданского общества. // Pro &
Contra. 2010, №1-2 (48) (январь-апрель), с.47 и далее.
16 В своем Президентском
послании в 2006 г. глава государства коснулся судьбы детей с отклонениями
и указал пути изменения общественного и государственного отношения
к их судьбе – такой, который ставил бы Россию на одну цивилизационную
плоскость с современными западными обществами. См. Путин В.В. Послание
Федеральному собранию Российской Федерации // Российская газета,
2006, 11 мая.
17 См. многократно
подтвержденный в опросах результат. На вопрос «На кого вы можете
рассчитывать в случае необходимости?» наиболее массовый ответ «Только
на себя». Однако, дающие этот ответ, указывают не на норму, а на
отклонение от нее. Нормой, в их понимании, являются взаимопомощь
людей и помощь им со стороны государства.
18 Об этом см. :
Левинсон А. Опыт социографии. М., 2004, с. 580, 591.
19 Наши опросы с
самого их начала в позднесоветские годы и далее устойчиво показывали
выраженное нежелание отдавать в армию сыновей, хотя с начала 2000-х
гг. стали показывать высокое почтение к армии как к символической
сущности.
|

