|
|
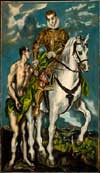 |
Может
ли "Юг" двинуться на север? |

Над темой работал
Анатолий ВИШНЕВСКИЙ
|
Границы миграционной емкости "Севера"
Миграция с бедного "Юга" на богатый "Север"
представляется вполне логичной, и кажется естественным ожидать,
что миграционные потоки, сформировавшиеся во второй половине ХХ
века, будут не только сохраняться, но и расширяться. В действительности
же такое расширение может очень скоро встретиться с серьезными препятствиями,
натолкнувшись на ограниченность миграционной емкости развитых стран.
Эти страны широко открыли двери мигрантам в тот момент,
когда их собственный демографический рост замедлился, сменился стагнацией,
а кое-где стал появляться и отрицательный естественный прирост населения.
В ситуации послевоенного экономического роста они стали испытывать
нехватку рабочей силы, особенно неквалифицированной, в связи с чем
и оказались заинтересованными в притоке постоянных или временных
иммигрантов из менее развитых регионов Третьего мира. Страны-реципиенты
стали поощрять иммиграцию, которая и принесла им необходимую .рабочую
силу, что способствовало их экономическому подъему. Но и страны
выхода получили немалую экономическую выгоду, не говоря уже о пользе
непосредственного соприкосновения выходцев из Третьего мира с современной
культурой развитых стран.
По оценке Мирового банка, в конце 1980-х годов работавшие
в других странах мигранты ежегодно передавали в свои страны часть
своих доходов, равную в совокупности 65 миллиардам долларов - сумма,
уступавшая по величине только совокупным доходам от продажи сырой
нефти . В начале 1990-х годов получаемая странами выхода часть доходов
эмигрантов составляла 31% всех доходов от внешнеэкономической деятельности
Египта, 26% - Бангладеш и Иордании, 25% - Судана, 23% - Марокко
и Мали и т. д.
Таким образом, на какое-то время интересы стран выхода
и стран приема мигрантов совпали, по крайней мере, частично. Однако
постепенно стала обнаруживаться противоречивость найденного, казалось
бы, пути.
Прежде всего, дает себя знать количественное несоответствие.
Потребности развитых стран в привозной рабочей силе, особенно если
она служит структурным дополнением к уже имеющимся трудовым ресурсам,
ограничена, тогда как потенциальное предложение развивающихся стран
практически безгранично. Согласно оценкам мировой потребности в
рабочих местах, основанным на прогнозах численности населения в
рабочих возрастах на период до 2050 года, для трудоустройства населения
развитых странах в 2050 году нужно будет 513 миллионов рабочих мест
- на 84 миллионов меньше, чем в 1995. Населению же развивающихся
стран понадобится 3928 рабочих мест - на 1806 миллионов больше,
чем в 1995 . Даже если рассматривать эти оценки как в высшей степени
приблизительные, нельзя усомниться в разительном несоответствии
величин и вытекающей отсюда неспособности развитых стран "Севера"
удовлетворить сколько-нибудь значительную часть исходящего из развивающихся
стран "Юга" спроса на работу на "Севере".
Дело, однако, далеко не только в емкости рынка рабочей
силы развитых стран, существуют и другие пределы их миграционной
емкости. Они связаны с ограниченными возможностями социальной адаптации
в странах приема иммигрантов, являющихся носителями других культурных
традиций, стереотипов и т.д. До тех пор, пока количество таких иммигрантов
относительно невелико, они достаточно быстро ассимилируются местной
культурной средой, растворяются в ней, и серьезных проблем межкультурного
взаимодействия не возникает. Когда же абсолютное и относительное
число иммигрантов становится значительным, а главное, быстро увеличивается,
и они образуют в странах прибытия более или менее компактные социокультурные
анклавы, ассимиляционные процессы замедляются и возникают межкультурные
напряжения, усиливающиеся объективно существующим экономическим
и социальным неравенством "местного" и "пришлого"
населения.
Есть и еще один чрезвычайно важный фактор, резко повышающий
конфликтогенность ситуации и связанный с самим процессом адаптации
носителей традиционных сельских культур стран Третьего мира к современной
городской культуре промышленных стран. Такая адаптация с неизбежностью
порождает культурную маргинализацию иммигрантов, по крайней мере,
временную, кризис их культурной идентичности. Положение обостряется
еще и тем, что такой кризис нарастает и в самих странах Третьего
мира, постепенно продвигающихся по пути модернизации. Все они вступают
в крайне болезненный этап внутреннего культурного конфликта, жесткого
противостояния ценностей традиционализма и модернизма.
Этот конфликт развивается на фоне быстро нарастающих
притязаний новых, порождаемых модернизацией социальных слоев и сохраняющегося,
а иногда и увеличивающегося экономического и социального неравенства,
всеобщей бедности и т. д. Рано или поздно он затрагивает и основную
массу крестьянского населения. Оно также все явственнее испытывает
давление модернизационных перемен (к числу которых, кстати сказать,
относятся быстрое снижение смертности и ускорившийся рост населения).
Неготовность поколений, социализировавшихся в традиционных условиях,
принять перемены, без которых нельзя жить в современном мире, выливается
в массовое неприятие всего нового, в агрессивное отторжение всех
"городских", "западных" нововведений. Повсеместно
ширится смутное общественное недовольство, создающее идеальную почву
для политического, идеологического, религиозного экстремизма, который
может быть легко использован в любых политических целях, совместимых
с неразборчивостью в средствах.
Эмигрантские анклавы в развитых странах, нередко представляющие
собой слепки с тех обществ, из которых они вышли, сохраняющие с
ними связь и в то же время особенно раздираемые противоречиями культурной
идентификации, маргинальные в странах приема, часто оказываются
весьма чувствительными к упрощенным "фундаменталистским"
идеям, помогающим избавиться от культурной раздвоенности и, как
кажется, вновь обрести свое целостное "я". Но при этом
процесс ассимиляции блокируется, и многие (хотя, конечно, не все)
иммигранты оказываются в оппозиции к принимающим их обществам.
Эта противоречивая ситуация, равно как и несоответствие
спроса и предложения на рынке труда все больше ощущаются уже сейчас.
Промышленные страны, использующие иностранную рабочую силу, начинают
осознавать ограниченность своей иммиграционной ёмкости, в них возникает
конкуренция "своих" и "чужих" за рабочие места,
разворачиваются дебаты вокруг проблемы иммиграции, которая становится
важной картой в политической игре, нарастают антииммиграционные
настроения и усиливаются меры по ограничению притока мигрантов.
|

