|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факторы неравенства на микроуровне
(Опубликовано в книге: Динамика монетарных и немонетарных
характеристик уровня жизни российских домохозяйств за годы постсоветского
развития: аналитический доклад / рук. авт. колл. Л.Н. Овчарова,
А.Я. Бурдяк, А.И. Пишняк, Д.О. Попова, Р.И. Попова, А.М. Рудберг.
М.: Фонд "Либеральная миссия", 2014. с. 40-46)
В политической риторике стало модным негативное отношение
к неравенству, хотя именно благодаря неравенству формируются модели
трансформации образования и занятости в доходы и модели трансформации
доходов в инвестиции. Региональное и поселенческое неравенство в
доходах — это сигнал для перемещения трудовых ресурсов к точкам
экономического роста, хотя население в целом негативно относится
к территориальному неравенству в доходах. Изучение факторов дифференциации
доходов на микроуровне позволит, во-первых, определить лифты восходящей
доходной мобильности, во-вторых, оценить их силу.
Классический подход к изучению факторов неравенства
на микроуровне заключается в декомпозиции агрегированных индексов
неравенства по подгруппам населения. Если рассматривать весь
имеющийся набор доходов как совокупность, где подгруппами являются
группы индивидов, выделенные на основе какого-либо признака, можно
разложить общее неравенство доходов на неравенство между этими подгруппами
и неравенство внутри подгрупп. Некоторые индексы неравенства, например
меры, принадлежащие к классу обобщенной энтропии, без остатка раскладываются
на внутри- и межгрупповую компоненты неравенства[1].
Внутригрупповая компонента равна сумме индексов всех подгрупп, перевзве-
шенных по доле населения в подгруппах; межгрупповая компонента неравенства
рассчитывается также как сам индекс неравенства, за тем исключением,
что индивидуальные доходы заменены средними доходами подгрупп. Последняя
интерпретируется как вклад данного фактора в общее неравенство.
На неравенство доходов могут влиять как различия в доходах
между группами населения с разными демографическими характеристиками
(возраст, структура домохозяйства), так и изменения демографической
структуры. Возраст индивида отражает его положение на карьерной
лестнице и стадию жизненного цикла семьи. Заработная плата, как
правило, растет с возрастом за счет накопленного опыта работы и/или
роста соответствия между навыками работника и требованиями работодателей.
Стадия жизненного цикла семьи также оказывает влияние на доходы
домохозяйства: последние, как правило, снижаются за счет присутствия
детей. Демографические изменения, такие как старение населения и
снижение рождаемости, также влияют на неравенство доходов. Увеличение
продолжительности жизни и пенсионного возраста когорт, родившихся
в период «бэби-бума», привели к изменениям в возрастной структуре
населения: доля пожилых растет, тогда как доля детей и трудоспособных
сокращается. Снижение рождаемости и увеличение вероятности распада
союзов ведут к сокращению среднего размера домохозяйств.
Так как доходы от занятости являются основным источником
существования для большинства обычных домохозяйств, доходы
домохозяйств в значительной степени определяются статусом членов
домохозяйства на рынке труда. Как краткосрочные флуктуации уровня
безработицы, так и более фундаментальные изменения (например, рост
занятости женщин или увеличивающая сегментация рынка труда)
влияют на статус занятости домохозяйств. Таким образом, изменения
на рынке труда — важные драйверы неравенства. Образование является
детерминантой перспектив индивида на рынке труда. В соответствии
с теорией человеческого капитала индивидуальная производительность
растет вместе с числом лет обучения, что отражается в более высокой
зарплате людей с высоким уровнем образования. Следовательно, уровень
образования влияет на доходы индивидов и домохозяйств. Изменение
структуры образования (например, расширение доступности высшего
образования) и рост доходных различий в зависимости от уровня образования
становятся важными драйверами неравенства доходов на микроуровне.
Перспективы индивида на рынке труда также могут зависеть
от пространственных аспектов рынка труда: доступность занятости
и оплата труда может быть выше в более урбанизированных районах.
Экономическая активность часто концентрируется в крупных городах,
и это приводит к большему спросу на труд в урбанизированных территориях.
Если существуют препятствия на пути мобильности населения, пространственное
неравенство может стать источником застойного неравенства и бедности
домохозяйств, проживающих в экономически неразвитых районах.
Таким образом, мы исходим из того, что уровень экономического
благосостояния домохозяйств определяется их демографической
структурой (число взрослых и детей, пол и возраст членов домохозяйства),
социально-экономическим статусом (уровень образования и статус
занятости членов домохозяйства) и «внешними» факторами, связанными
с местом проживания. В отличие от традиционного подхода к агрегированию
индивидуальных признаков до уровня домохозяйства c использованием
в этих целях характеристики главы домохозяйства, в данной работе
применяется типология домохозяйств на основе доминирования определенного
признака в домохозяйстве[2].
Набор факторов включает следующие характеристики домохозяйств: 1)
размер домохозяйства, 2) гендерный состав (соотношение
числа взрослых женщин и мужчин), 3) возрастная структура
(соотношение числа индивидов в возрасте 65 лет и старше и индивидов
в возрасте 18-64 лет), 4) детская нагрузка (соотношение числа
детей до 18 лет и работающих взрослых), 5) уровень образования
(соотношение числа взрослых с высшим и без высшего образования),
статус занятости (соотношение числа занятых и незанятых
взрослых[3]), тип населенного
пункта, 8) регион[4]. В таблице
П3 приведены распределения независимых переменных. Результаты декомпозиции
представлены на рис. 2.5.

Рисунок 2.5. Факторы неравенства
в 1992-2012 гг. (вклад межгрупповой компоненты в общее неравенство,
среднее логарифмическое отклонение)
Примечание. Для данного размера выборки значимыми считаются
факторы, вес которых превышает 5%.
Источник: рассчитано по данным РМЭЗ.
Демографические факторы достигают 5%-го порога лишь
в отдельные годы, и ни один из них не преодолевает порога в течение
всего периода 1994-2012 гг. На протяжении 1998-2007 гг. наиболее
высокий вес среди демографических факторов (около 4-5%) имела лишь
«возрастная структура».
Фактор «высшее образование» не входил в число значимых
в начале переходного периода (в 1992 г. его вклад в неравенство
составлял менее 2%), и, хотя его вес начал расти уже в середине
1990-х, заметный скачок вверх произошел лишь в 1998-2000 гг.
В первой половине 2000-х вклад фактора колебался на уровне
7-8% с одномоментным снижением. В 2006-2007 гг. он набрал максимальный
вес (10%), опережая все остальные факторы неравенства, помимо регионального.
С началом кризиса в 2008 г. удельный вес «образования» снизился
до 6-7%, а по данным за 2012 г. — упал до 5,1%.
Динамика веса фактора «статус занятости» в значительной
степени повторяет динамику «образования». В начале 1990-х вклад
данного фактора в неравенство не превышал 5%. В дальнейшем он непрерывно
возрастал, достигая максимума в 2006 г. (9%). В период 2008-2012
гг. значение фактора упало до 5,3%.
Стабильно высокий вес на протяжении всего рассматриваемого
периода имели оба фактора, связанные с местом проживания домохозяйства.
Значение фактора «тип поселения» находилось около 5%-го порога с
середины 1990-х до начала 2000-х гг. В 2003 г. вес фактора достигал
максимального уровня (7,2%). Начиная с 2004 г. фактор стал терять
свою значимость.
Значимость региональных различий для объяснения общего
неравенства была высокой уже в 1992 г. (9%), но особенно заметный
скачок веса данного фактора пришелся на вторую половину 1990-х,
когда его значение выросло до 15%. Учитывая, что используемый нами
показатель душевых расходов сглажен по регионам, можно предположить,
что вклад регионального фактора на самом деле еще выше. В начале
2000-х межрегиональные различия, судя по всему, стали падать и значение
фактора закрепилось на уровне 12-13%. В 2010 г. мы еще раз наблюдаем
снижение, однако на этом ресурсы снижения были исчерпаны. В целом
вес регионального фактора как минимум в 2 раза выше веса любого
из рассматриваемых факторов.
Еще раз подчеркнем, что за весь рассматриваемый нами
период (1992-2012 гг.) самые высокие темпы роста имели фактор «уровень
образования», вес которого увеличился почти в 3,7 раза, а если исключить
из рассмотрения посткризисные годы (2008-2012 гг.) — в 6 раз. С
другой стороны, в течение всего рассматриваемого периода наиболее
весомым фактором дифференциации российских домохозяйств по уровню
расходов оставалось региональное неравенство.
|
Вставка 2.3. Сравнительный анализ микроэкономических
факторов неравенства в России и странах ЕС
Отличается ли Россия от других стран по набору
и весу факторов неравенства? Метод декомпозиции неравенства
неоднократно использовался различными авторами, исследующими
воздействие индивидуальных и домохозяйственных характеристик
на неравенство доходов в Европе и странах ОЭСР[5].
Наиболее свежие результаты применения данного метода для стран
ЕС приведены в годовом отчете Обсерватории социальных процессов,
существующей при поддержке Европейской комиссии (EC,
2009). Для целей сравнительного анализа при расчете российских
показателей мы опирались на методологию расчета доходов и
типологий домохозяйств, примененную в данном докладе.
Рис. 1 показывает, как эффект различных факторов
неравенства (средние невзвешенные значения межгрупповых компонент
неравенства) варьирует в кластерах стран с разными моделями
государства благосостояния. В среднем по всем кластерам наблюдается
более низкий эффект демографических переменных в сравнении
с эффектом образования и интенсивности занятости. Лишь Скандинавские
страны демонстрируют отличную модель, с практически равным
весом демографических характеристик и характеристик, связанных
с рынком труда.
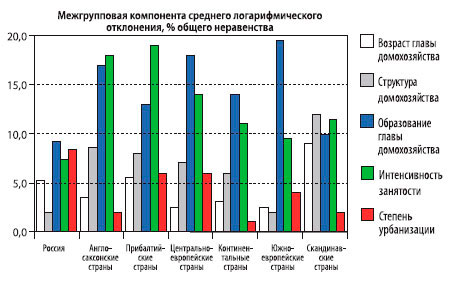
Рисунок 1. Средний вклад
социально-демографических факторов в объяснение неравенства
по кластерам стран с разными режимами государства благосостояния,
2006 г.
Источник: для стран ЕС (EC, 2009); для России рассчитано
по данным РМЭЗ-ВШЭ 2006 г.
В сравнении с европейскими странами в России наблюдается
более низкий вклад межгруповых различий в общее неравенство,
ни один признак из нашего набора не имеет веса выше 10%. По
структуре факторов неравенства Россия не похожа ни на одну
из европейских моделей. В России различия по уровню образования
являются более значимым фактором, чем интенсивность занятости.
Такая же ситуация характерна для стран Центральной Европы,
континентальных и южноевропейских стран, тогда как в англосаксонских
странах образование и интенсивность занятости имеют примерно
одинаковый эффект, а в балтийских странах интенсивность занятости
является самым важным фактором неравенства. Наиболее заметной
российской особенностью является высокий вклад различий, связанных
с местом проживания домохозяйств. Подобная ситуация, хотя
и в меньшей степени, характерна для других постсоветских стран
и стран Южной Европы.
Отметим, что в мировом контексте именно межстрановое
неравенство становится основным, в то время как двести лет
назад, согласно расчетам Милановича[6]
разрыв в доходах разных социальных групп внутри стран определял
лицо глобального неравенства.
|
[1] Theil, H. (1967). Economics
and Information Theory. Chicago: Rand McNally and Company; Shorrocks,
A. F. (1980). The Class of Additively Decomposable Inequality Measures
// Econometrica 48(3): 613-625; Shorrocks, A. (1984). Inequality
decomposition by population subgroups // Econometrica 52(6): 1369-1386.
[2] Традиционный подход имеет
серьезные ограничения, учитывая, что идентификация главы домохозяйства
основана на субъективных критериях. Как правило, статус главы автоматически
приписывается мужчине, или самому старшему члену домохозяйства,
или индивиду с самым высоким доходом. Менее спорный подход заключается
в случайном отборе индивида внутри домохозяйства. Последнее вносит
некоторый элемент риска; например, мы можем ошибочно отобрать мужчину
в качестве представителя домохозяйства, состоящего из трех женщин
и одного мужчины. Тем не менее в больших выборках эта ошибка будет
незначительной, тогда как в небольших выборках метод, основанный
на доминировании признака, предпочтителен.
[3] Категория «незанятый» включает
безработных и экономически неактивных.
[4] Выборка РМЭЗ нерепрезентативна
в региональном разрезе, поэтому она не может быть использована для
оценки неравенства внутри отдельных регионов, однако это не является
препятствием при оценке межгрупповой компоненты неравенства.
[5] Forster, M. F. (2000).
Trends and Driving Factors in Income Distribution in the OECD Area.
OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers No. 42. Paris;
IBRD/WB (2006). Equity and Development. World Development Report
2006. Oxford: World Bank and Oxford University Press; Mitra, P.
and R. Yemtsov (2006). Increasing Inequality in Transition Economies:
Is There More to Come? // World Bank Policy Research Working Paper
No. 4007. Washington, D.C.
[6] Milanovic,
В. Global incime inequality by the numbers: in history and now.
Paper was presented at the Conference on Global Justice held at
the Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali (LUISS)
in Rome on June 6-9, 2012
|

