|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Рубрику ведет
Илья КАШНИЦКИЙ
|
Re-theorizing Family Demographics
Госта Эспинг-Андерсен и Франческо Биллари предлагают
пересмотреть представления о взаимосвязи роли семьи, образования
и рождаемости. Взглянуть по-новому на будущее рождаемости они предлагают
через призму гендерного равенства.
Существующие теории пост-переходного развития рождаемости
предсказывают "менее семейное" ("less family")
будущее: усиление нестабильности семей (партнерских союзов), снижение
брачности и рождаемости. И эти взгляды подтверждались эмпирическими
данными на протяжении всей второй половины двадцатого века. Лишь
в последние годы эмпирические свидетельства заставили пересмотреть
устоявшиеся уже теории. Авторы отмечают три главных момента, которые
идут в разрез с базовыми теориями. Во-первых, несмотря на значительное
снижение рождаемости, не произошло глобальной корректировки родительских
предпочтений в сторону однодетной иди бездетной семьи (см. обзор
статьи Sobotka, T., & Beaujouan, ?. 2014 в этом выпуске). Во-вторых,
буквально в последние года резко изменились многолетние тренды:
теперь уровень рождаемости положительно взаимосвязан с экономическим
развитием, доходом и занятостью женщин. В-третьих, существенные
изменения наблюдаются на индивидуальном уровне: вопреки традиционным
представлениям и теориям рационального выбора, сегодня более стабильные
союзы и высокий уровень рождаемости характерен для людей с более
высоким уровнем образования. В статье предлагается новая теоретическая
концепция, объясняющая недавние развороты трендов. Предложенная
в статье теоретическая конструкция опирается на идею важности гендерного
равенства для быстрого и эффективного восстановления рождаемости
после закономерного но временного снижения. Таким образом, скорость
восстановления рождаемости авторы увязывают со скоростью распространения
эгалитарных гендерных норм. В свою очередь, распространение гендерного
равноправия моделируется с помощью стандартной эпидемиологической
модели диффузии (забавно, что в такой терминологии гендерный эгалитаризм
рассматривается как эпидемия).
Эспинг-Андерсен и Биллари иллюстрируют ключевую идею
на примере европейских стран, сравнивая взаимосвязь гендерного равенства
и прочности союзов в конце 1980-х и конце 2000-х годов (см. рисунок
3). Произошедшее в последние годы изменение зависимости отчетливо
видно при данном сравнении.
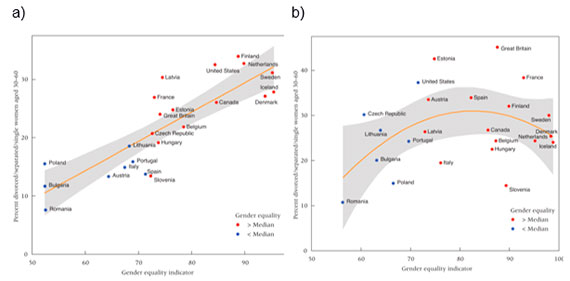
Рисунок 3. Взаимосвязь гендерного эгалитаризма и стабильности
партнерских союзов в конце 1980-х (a) и конце 2000-х годов (b)
Основные положения новой теории исследователи формулируют
в пяти утверждениях.
- В отсутствие мощного внешнего воздействия, общество
остается в состоянии традиционного равновесия. Вне зависимости
от того, был ли исходный импульс экзогенным или эндогенным, рост
уровня образования среди женщин запускает процесс трансформации
общества, отдаляя его от традиционного.
- Уход от традиционного общества необратим и развивается
независимо от экзогенных факторов, спровоцировавших исходный импульс,
до тех пор, пока все население не станет эгалитарным.
- Менее разнородные и стратифицированные общества
склонны к более стремительной и всепроникающей диффузии эгалитаризма,
т.е. не возникает закрытых сообществ, не затронутых процессом.
И наоборот, чем выше неравенство в обществе (например, этническое),
тем медленнее и менее равномерно проистекает диффузия.
- Чем сильнее распространены эгалитарные нормы в обществе,
тем выше вероятность совместимости двух конкретных представителей
этого общества. Таким образом, в результате гендерного равенства
происходит укрепление партнерских союзов и увеличение рождаемости.
- Окончательное утверждение гендерного эгалитаризма
в качестве новой социальной нормы позволит семьям всех социальных
страт точнее воплотить свои предпочтения в области планирования
семьи. В итоге, по завершении переходного периода, воспроизводство
станет Парето-оптимальным.
|

