|
|

|
Брачность
и рождаемость в Киргизии |
|
Над темой номера работали
|
 |
 |
 |
|
Михаил ДЕНИСЕНКО
|
Наталья КАЛМЫКОВА
|
Леся
НЕДОЛУЖКО
|
|
Регулирование рождаемости и планирование семьи
Динамика показателей рождаемости, как правило, рассматривается
в контексте экономических и социально-политических трансформаций.
Снижение уровня жизни и политическая нестабильность являются известными
факторами, вынуждающими население адаптировать свое репродуктивное
поведение к реалиям текущего дня. Типичные примеры такой адаптации,
ведущие к кратко- либо к долгосрочному снижению рождаемости – это
откладывание рождений и ограничение размера семьи. Репродуктивное
поведение, безусловно, может определяться и менее глобальными, чем
стрессовая экономическая и социально-политическая ситуация, факторами.
Так, время рождения детей и их количество в семье могут регулироваться
в соответствии с карьерными планами или планами, связанными с переездом
и миграцией. Механизмами реализации подобной адаптационной стратегии
являются предупреждение и прерывание нежелательной беременности.
На вопрос о том, насколько широко применяется каждый из этих механизмов
населением Киргизии, мы постараемся ответить далее.
Использование контрацепции. Имеющиеся
данные об использовании контрацепции отрывочны и не позволяют проследить
за тем, как изменялись осведомленность населения о современных методах
предупреждения беременности и отношение к ним. Тем не менее, по
материалам выборочных обследований можно составить общее представление
о распространенности и структуре методов, применяемых разными группами
населения в современном Кыргызстане.
Широкий круг вопросов о знании и использовании методов
контрацепции охвачен медико-демографическим обследованием (DHS),
проведенным в 1997 году. В ходе этого обследования было опрошено
3848 женщин в возрасте 15-49 лет. Результаты проведенных интервью
показывают, что почти каждая из опрошенных (97,2%) знала как минимум
один метод предупреждения беременности23.
Тем не менее, не все методы оказались одинаково хорошо знакомы респондентам.
Больше всего женщин знало о внутриматочной спирали (95,6%), презервативах
(81,1%) и противозачаточных таблетках (67,7%)24.
Неудивительно, что именно эти методы были и в числе наиболее часто
используемых (рис. 22).
По данным DHS, доля респондентов, состоящих в зарегистрированном
или неофициальном браке (исключая беременных женщин и женщин указавших,
что они не могут иметь детей), положительно ответивших на вопрос
«Используете ли вы какой-нибудь метод предупреждения беременности
в настоящее время?» составила 68,7%. Проведенное в 2005-2006
годах «Кластерное обследование по многим показателям - MICS», с
общим количеством респондентов репродуктивного возраста равным 6973,
определило более низкую долю пользователей контрацепции среди состоящих
в браке женщин – 54,5%25.

Рисунок 22. Структура используемых методов контрацепции,
Киргизия, DHS 1997 и MICS 2005-06 (%)
Источник: Рассчитано по данным DHS 1997 и MICS 2005-06.
Среди центрально-азиатских республик по уровню использования
контрацепции (в том числе ее современных методов) Киргизия опережает
только Таджикистан. По материалам последних исследований, проведенных
на национальном уровне, доля женщин, состоящих в официальном или
неофициальном браке, которые использовали любой метод контрацепции,
составила: в Казахстане – 51,0%, в Киргизии – 48,0%, в Таджикистане
-38,0%, в Туркмении – 62,0%26,
в Узбекистане – 65,0%27.
Рис. 22 отражает структуру используемых методов контрацепции
по материалам DHS 1997 и MICS 2005-2006. Он свидетельствует о том,
что самым популярным из методов предупреждения беременности у женщин
Кыргызстана была и остается внутриматочная спираль (ВМС). Этому
методу в 1997 и 2005-2006 годах отдавали предпочтение, соответственно,
64,8 и 68,5% использующих контрацепцию респондентов. Популярность
других методов заметно ниже. Основные изменения в структуре применяемой
контрацепции в период между двумя обследованиями – это сокращение
доли традиционных методов и рост доли противозачаточных таблеток.
Показатель неудовлетворенной потребности в средствах
контрацепции рассчитывается для фертильных (физически способных
к деторождению) женщин, которые хотели бы отсрочить беременность
или избежать ее, но при этом по какой-либо причине не используют
средств контрацепции. Результаты MICS показывают, что для состоявших
в официальном или неофициальном браке женщин он составил 1.1% (НСК
КР и ЮНИСЕФ 2007). Иными словами, лишь незначительная часть замужних
женщин, нуждавшихся в средствах контрацепции, не имела возможности
воспользоваться ими. Для сравнения отметим, что, например, для соседних
Узбекистана и Таджикистана неудовлетворенная потребность в средствах
контрацепции была значительно выше – 7,8 и 23,7%, соответственно
(см. соответствующие заключительные отчеты MICS).
Искусственные аборты. Для нескольких поколений
советских женщин искусственный аборт (далее аборт) служил основным
методом регулирования рождаемости. В условиях, когда эффективные
средства контрацепции для большинства населения были недоступны,
широкая практика применения абортов стала яркой характеристикой
репродуктивной культуры и существенным фактором, определяющим тенденции
общей рождаемости. Этнические и региональные различия распространенности
абортов, в первую очередь, определялись репродуктивными предпочтениями
населения. Очевидно, чем выше были эти предпочтения, тем менее был
востребован аборт и, наоборот. Так, в традиционно многодетной Центральной
Азии аборты были менее распространены, чем в России и ряде других
европейских республик СССР28.
При этом здесь к абортам реже прибегали женщины коренного населения,
чем представительницы некоренных этносов.
Становление государственной независимости в постсоветских
республиках, наряду с многочисленными другими переменами, затронуло
и сферу регулирования рождаемости. Развитие рынка контрацепции,
появление частных структур, оказывающих услуги в области планирования
семьи, консультационная и финансовая помощь международных организаций,
направленная на защиту репродуктивных прав населения и улучшение
его репродуктивного здоровья, сыграли и продолжают играть существенную
роль в обеспечении перехода от абортов к контрацепции.
Данные, приведенные в табл. 8, демонстрируют, что в
Киргизии снижение уровней абортов наблюдалось еще в 70-х и 80-х
годах. Однако наиболее ощутимый спад числа абортов и относительных
показателей применения этого метода регулирования рождаемости, относится
к первой декаде постсоветского периода. Помимо растущей осведомленности
населения о современных методах контрацепции и повышения доступности
этих методов, на сокращение распространенности абортов влияют и
другие факторы. Одним из них является изменение этнической структуры
населения республики, о котором мы уже неоднократно упоминали. На
общих уровнях абортов не могло не отразиться снижение доли некоренного,
прежде всего русского населения, характеризующегося низкой рождаемостью
и, соответственно, большей, по сравнению с коренным населением,
потребностью в методах ограничения рождаемости. При неизменном этническом
составе населения в 90-х годах число абортов было бы как минимум
вдвое выше по сравнению с существующими официальными показателями29.
Таблица 6. Аборты в Киргизии
|
|
1970
|
1975
|
1980
|
1985
|
1990
|
1995
|
2000
|
2005
|
2009
|
|
Число абортов (включая мини-аборты)
|
68602
|
63963
|
64957
|
69382
|
73795
|
42518
|
22044
|
20035
|
22088
|
|
Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет
|
102,6
|
84,1
|
76,0
|
73,0
|
72,1
|
38,9
|
17,1
|
13,9
|
14,7
|
|
Число абортов на 1000 родившихся живыми
|
758,5
|
631,5
|
605,5
|
540,1
|
572,9
|
362,3
|
227,8
|
182,4
|
163,0
|
Источник: Министерство здравоохранения Киргизской Республики
Среди центрально-азиатских республик по уровню абортов
Киргизия уступает только Казахстану; в последнем соответствующие
показатели после развала Советского Союза были выше в два и более
раз. По данным 2008 года число абортов на 100 живорождений в Киргизии
составило 16,3, в Казахстане – 34,8, в Узбекистане – 6,2 и в Таджикистане
– 5,130. Среди всех
постсоветских государств по уровню абортов с большим отрывом лидирует
Россия – 80,8 абортов на 100 живорождений в 2008 году31.
Анализ возрастных показателей прерывания беременности
по официальным данным демонстрирует, что основное число абортов
(более 70 процентов) приходится на женщин в возрасте 20-34 года
с примерно равным распределением их доли между промежуточными пятилетними
группами. Для женщин в возрасте 35 лет и старше эта цифра в различные
годы рассматриваемого нами периода32
составляла от 7 до 22%. И, наконец, самая младшая возрастная группа
(до 20 лет), в среднем, обеспечивала 10% регистрируемых абортов.
Рис. 23 представляет возрастную структуру женщин, применявших аборт
по данным 2009 года.
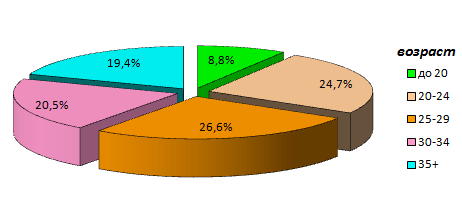
Рисунок 23: Аборты по возрастам, Киргизия, 2009 (%)
* * *
В период независимости Киргизия прошла через два разных
этапа в демографическом развитии. На первом этапе, в 1990-х гг.,
произошел заметный спад в рождаемости и брачности из-за острого
экономического кризиса и резкого снижения уровня жизни населения.
По мере улучшения экономической ситуации в 2000-х гг. брачность
и рождаемость стали повышаться. С распадом СССР остались в прошлом
социальные гарантии (бесплатное медицинское обслуживание и образование,
пособия по рождению ребенка, всеобщая занятость и др.), способствовавшие
сравнительно раннему вступлению в брак и поддерживавшие большое
число многодетных семей. Переход к рынку вызвал коренную перестройку
системы распределения благ и, тем самым, обусловил необходимость
приспосабливать процесс формирования семьи к новым социально-экономическим
условиям. Типичными примерами адаптации населения к кризисным условиям
и нестабильности, отмеченные еще Мальтусом, являются сокращение
брачности и рождаемости. Поэтому именно адаптационные стратегии
матримониального и репродуктивного поведения, как правило, рассматриваются
в качестве основного объяснения спада брачности и рождаемости в
первое постсоветское десятилетие. Современные тенденции рождаемости,
несомненно, формируются под воздействием меняющегося отношения к
семье и нормам детности, характерным для демографического перехода.
Рост рождаемости в 2000-х гг. ни в коей мере не противоречит идеям
демографического перехода, поскольку происходит на фоне сокращения
рождений высоких очередностей и старения материнства. В значительной
мере он объясняется структурными факторами: изменением этнического
состава в пользу центральноазиатских народов из-за массового оттока
русскоязычного населения и благоприятной возрастной структурой.
23 В более позднем
выборочном обследовании MICS 2005/06 вопрос о знании методов контрацепции
не задавался.
24 Research Institute
of Obstetrics and Pediatrics and Macro International Inc. 1998.
25 47.8% без поправки
исключающей из расчетов беременных и бесплодных женщин (Нацстатком
Киргизской республики и ЮНИСЕФ 2007, стр.107).
26 Данные по Туркмении
относятся к периоду до 2004 года.
27 Population Reference
Bureau 2010, World Population Data Sheet, с.12
28 Popov A. (1991).
Family planning and induced abortion in the USSR: Basic health and
demographic characteristics. Studies in Family Planning, 22(6):368-377.
29 Денисенко, М.
Рождаемость в Кыргызстане / Население Кыргызстана / Ред. З. Кудабаев,
М. Гийо, М. Денисенко. Бишкек: Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики, 2004. стр. 206-241.
30 Данные по Туркмении
за 2008 отсутствуют. В 2006 число абортов на 100 живорождений в
Туркмении было 12,7. Для Киргизии соответствующий показатель в тот
же год составил 16,4, для Казахстана – 43,3, для Узбекистана – 8,1
и для Таджикистана – 5,4.
31 UNICEF Regional
Office for CEE/CIS, TransMONEE 2010 Database, Geneva, www.unicef.org/ceecis
32 Для расчетов
использованы показатели за 1991-2009 годы; данные об абортах с разбивкой
по возрастам за более ранние периоды отсутствуют.
|

